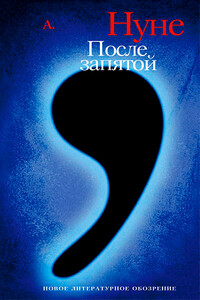Прошлогодний снег | страница 7
Мой аппендицит заживал. Я уже мог бродить по палате, держась за бок. На место дядьки, попавшего под машину, нам прислали другого. (Наш потерпевший увечья дядька ночью не выдержал, разбинтовал свои раны и сбежал. У него горела душа, и без пол-литра он не мог. Он совершенно запугал Абрама Моисеевича, и тот из-за него был готов уже решиться на операцию. Да вот беда — сбежал дядька.)
Профессор Дунаевский уже всерьез сердился на Абрама Моисеевича. Тот занимал чужое место в больнице. Абрам Моисеевич аккуратно раскладывал свои несчастные телеграммы. Ривочка из Днепропетровска приехала и сказала «делать». Зато какой-то болван из Малаховки написал «не делать».
Ночью Абрам Моисеевич разбудил меня и зашептал:
— Толик, давай сделаем так. Ты напишешь на одной бумажке слово «да», а другую бумажку оставишь пустой. Ты свернешь бумажки в трубочку, и я вытяну. Если я вытяну «да», так будет «да». Что я могу сделать?
«Ну ладно, старый черт, я тебе погадаю», — подумал я.
Я взял две бумажки, написал на обеих слово «да», свернул их в трубочки, перемешал в ладонях и протянул наивному Абраму Моисеевичу.
Он вытянул бумажку, увидел свое «да», охнул и затих. А я безмятежно уснул.
Утром профессор Дунаевский просунул голову в дверь и сердито посмотрел на старого Абрама Моисеевича.
— Профессор, — сказал мой старик справа, — я говорю «да». Я говорю — делать.
— С праздником, — сказал профессор, — мы перешли Рубикон.
— Чему вы радуетесь? — грустно сказал Абрам Моисеевич. — Семь раз отмерь, один раз отрежь.
Приехала белая тележка, старика с почетом погрузили на нее и повезли. Больные на губах исполнили гимн. Абрам Моисеевич помахал рукой и уехал за дверь. Прошел час. Другой. Третий… Старик не возвращался.
— Тетя Клава, — крикнул я в коридор нянечке, — давай следующего, наш Моисеевич, наверное, дуба дал. Молодого давай, веселее будет!
— Что ты там распоряжаешься, Толик? — раздался знакомый голос из-за двери. — Я тебе дам молодого! Не смей занимать мое место.
— Мать честная, — перекрестился Иван Васильевич, — гляди, Абрам-то живой едет. Вот живучий, черт окаянный.
— Ну что ж вы так долго, Абрам Моисеевич? — сказал я. — Тут уж и мысли всякие… Долго шла операция?
— Семь минут, — гордо сказал Абрам Моисеевич. — Этот профессор — настоящий академик.
— Семь минут? — удивился я. — Что же вы три часа не появлялись?
— Понимаешь, Толик, когда меня положили на этот проклятый стол, я стал думать: делать или не делать. Ну, теперь я буду стонать, а ты мне помогай. Ты понял?