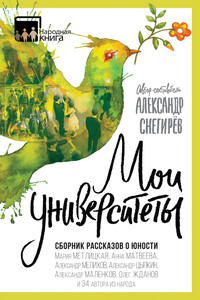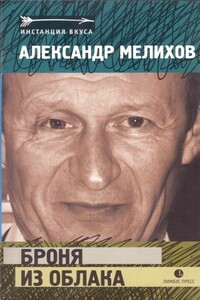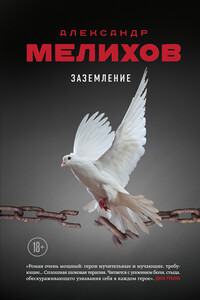Биробиджан - земля обетованная | страница 8
Правда, прежние еврейские поэты возглашали нечто противоположное Феферу и К°: «Да прилипнет в жажде к нёбу мой язык и да отсохнут руки, если я забуду Храм твой, Иерусалим!..» Если бы Фефер или кто-нибудь еще произнес о Биробиджане хоть вполовину что-нибудь столь же мощное — тогда бы я им поверил. Невозможно обрести родину, не заставив ее имя звучать поэзией, не включив его в какую-то систему чарующих образов. Не корысть, но поэзия движет народами, страну создают не столько инженеры и землекопы, сколько поэты и прочие грезотворцы. А это звучит отнюдь не поэтично: Биробиджан, страна моя…
Биробиджан — как много в этом звуке для сердца русско-еврейского слилось, как много в нем отозвалось! Для меня это имя, сколько помню, отзывалось чем-то нелепым, без всякого умения и старания изготовленным названием бездействующего муляжа еврейской независимости, еще гораздо более бездействующей, чем независимость украинская или эстонская. Надо же выдумать — еврейское государство в государстве у высоких берегов Амура, где наверняка по пальцам трех-четырех рук можно пересчитать всех евреев, сидящих там разве что в силу какой-то жизненной неудачи или по заданию партии. И слово-то, начинающееся с пивного «бир», тут же на полинезийский манер откликающегося еще одним «би», а заканчивающееся тюркским «джан» (Азербайджан) — и при этом все равно каким-то чудом еврейское, конфузившим меня перед окружающими неким особо смехотворным образом.
И этакое звукосочетание собиралось соперничать в величии и благозвучии с Иерусалимом!
Но может быть, когда-то для кого-то оно и впрямь звучало поэтически? Как бы заглянуть в уши и души тех, кто его в те времена слышал и произносил? Кто знает, возможно, они и впрямь могли воскликнуть от всего сердца: Биробиджан — это звучит гордо!
Когда я начал погружаться в историю Биробиджана, я очень скоро понял, что эту историю нужно в большей степени создать, чем изучить. Я имею в виду не научную историю, собирающую действительно важные факты о росте надоев и перемещениях во власти, но способную зачаровать лишь редких счастливцев, обладающих бухгалтерским складом души. В народной же душе способна жить лишь история поэтическая, почти пренебрегающая всем, что только полезно, а интересующаяся лишь грандиозным, трогательным, прекрасным и ужасным; в центре народной истории всегда стоит человек, тайный символ самого народа, — нет, не стоит, но борется, ликует, страдает, побеждает, терпит поражение и снова восстает, то безмерно великий и гордый, то безмерно несчастный, но никогда не жалкий или презренный. Народная память готова принять трагическое, но не унизительное.