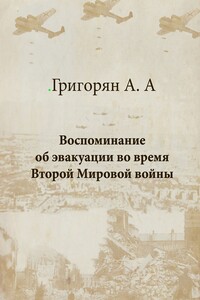Гракх-Бабеф | страница 27
Обвинение Бийо-Варенна вызвало чрезвычайно резкие возражения со стороны Бабёфа. «Это общество, — писал Бабёф, — менее всего похоже на центр заговорщиков, быть может оно является последним оплотом свободы». По уверению Бабёфа, электоральцы не имеют ничего общего с клубом, существовавшим в эпоху Эбера. Электоральцы соорганизовались после смерти Робеспьера. Бабёф удостоверяет, что он сам присутствовал на заседаниях электорального клуба.
«Принципы, которые там проповедывались, заставляют меня предположить, что он (клуб) составлен из порядочных людей».
Адрес секции Музея и петиция электоральцев от 20 фруктидора формулируют одну и ту же политическую программу. В петиции усиленно подчеркивается, что только благодаря узурпации народного суверенитета парижский муниципалитет стал орудием в руках Робеспьера. Как мы видим, это та же мысль, какую проводит адрес секции Музея. «Мы просим, — говорится в петиции электоральцев, — …чтобы никогда не наносился ущерб принципам, вверяющим одному народу право выбора должностных лиц». Тождество политической терминологии вскрывает тесную связь, установившуюся между руководителями электорального клуба и вожаками секции Музея.
В своем органе «Газета свободы печати» Бабёф в одинаковой степени отстаивал и секцию Музея и электоральцев. Изобличая членов якобинского клуба в посылке эмиссаров для борьбы с адресом Музея, Бабёф обвиняет газеты в том, что солгали, «утверждая, будто подавляющее число секций отвергло петицию Музея, в то время как на самом деле, несмотря на всю ревность якобинских эмиссаров, она была принята в довольно большом количестве». В № 13 Бабёф насчитывает от 12 до 15 секций, присоединившихся к адресу Музея.
По отношению к электоральцам правые и левые термидорианцы проводили совершенно одинаковую линию, словно повинуясь молчаливому соглашению. Сравнительно рано начались репрессии против клуба и отдельных его руководителей. Адрес 20 фруктидора редактировал некий Бодсон, занимавший пост судьи в трибунале первого округа. Он был арестован по постановлению Комитета общей безопасности, как об этом рассказывает Бабёф в № 7 своей газеты от 28 фруктидора. Он был схвачен в помещении трибунала при исполнении служебных обязанностей. Одновременно Комитет общей безопасности предписал арестовать делегата секции, ораторствовавшего перед трибуной Конвента. Бабёф, весьма сочувственно относящийся к содержанию петиции, солидаризовался с пострадавшими и обвинял новых господ положения в нарушении прав петиции и свободы собраний. «Пусть нападают, — писал он в № 7 своей газеты. — Я ничего не желаю кроме преследований». Несколько дней спустя он гневно обрушивается на Конвент. «Где же наконец Конвент?.. Что делает вся эта масса сенаторов?.. Чего она ждет для того, чтобы высказаться?» Если «сенаторы», движимые личными интересами, покончили с Робеспьером, то ведь они ничего не предприняли для того, чтобы разрушить робеспьеризм. Целые департаменты находятся еще во власти «ставленников тирана». Что делается для того, чтобы установить царство правосудия? «Почему тирания переживает таранов, или почему тираны находят последователей?» Почему допускается возмутительное насилие в отношении Бодсона, арестованного только за то, что он редактировал и представил Конвенту петицию «избирательного клуба»? Почему Конвент отказался принять петицию народного общества в Аррасе, которая является ведь простой декларацией свободы печати? Все это в глазах Бабёфа тревожные симптомы возвращающейся тирании, «повторения царства Максимилиана Робеспьера». Он перепечатывает в десятом и одиннадцатом номерах адрес Аррасского общества, содержащий между прочим «разоблачение» Барера, одного из вождей термидорианцев. Начинают поговаривать о закрытии народных обществ, и Бабёф мечет громы против этого «губительного для свободы проекта». Он видит во Франции две партии: одну, являющуюся сторонницей системы Робеспьера, и другую, стоящую за установление правительства, опирающегося исключительно на «вечные права человека».