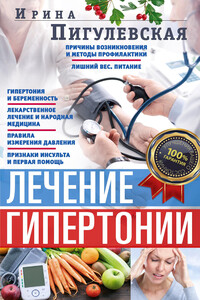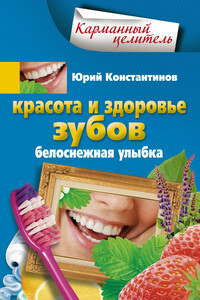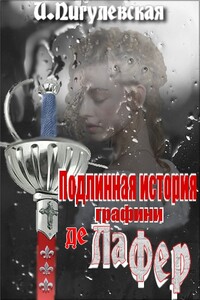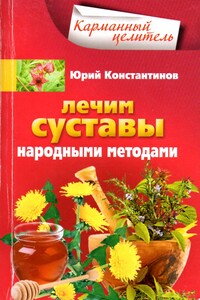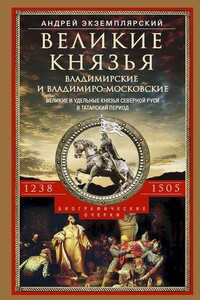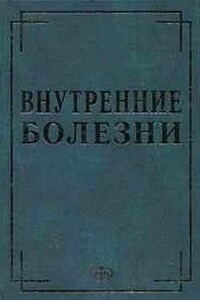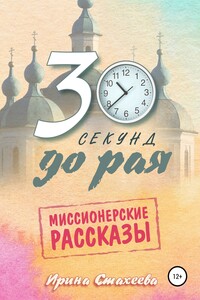Не мудрствуя лукаво | страница 57
Выражение употребляется в значении: роскошный, изысканный пир, по имени римского консула Люция Лициния Лукулла (ок. 106–56 гг. до н. э.), обладавшего огромным богатством и прославившегося роскошью и пирами, о чем рассказывает в его жизнеописании Плутарх.
Заглавие статьи Н. А. Добролюбова (1860), посвященной драме А. Н. Островского «Гроза». Самоубийство героини драмы, Катерины, Добролюбов рассматривает как протест против произвола и самодурства «темного царства». Этот протест пассивен, но свидетельствует о том, что в угнетенных массах уже пробуждается сознание своих естественных прав, что время рабской покорности проходит. Поэтому Добролюбов и назвал Катерину «лучом света в темном царстве». Выражением этим характеризуется какое-либо отрадное, светлое явление в среде бескультурья.
Выражение из «Истории народа римского» Тита Ливия: «Potius sero, quam nunguam». Нередко цитируется как французская поговорка: «Mieux vaut tard que jamais».
Выражение это стало крылатым благодаря Вольтеру, у которого оно встречается в «Недотроге» и в «Философском словаре», в статье «Art dramatique». Очевидно, основано оно на старой поговорке. Так, например, оно встречается в итальянском комментарии 1574 г. М. Джиованни к «Декамерону» Боккаччо. У Шекспира в трагедии «Король Лир» есть фраза: «Стремясь к лучшему, мы часто портим хорошее». Выражение часто цитируется по-французски: «Le mieux est Tennemi du bien».
Старая Русь не могла обойтись без лыка — липовой коры. Из лыка плелись короба, а главное, основная обувь русских крестьян — лапти. Каждый крестьянин должен был уметь если не плести, то хоть ремонтировать. Сказать про человека, что он «лыка не вяжет», — значило, что он не в своем уме либо же пьян до такой степени, что не в состоянии справиться с несложным, повседневным занятием. Именно в этом последнем смысле и сейчас сохранилось это выражение.
В то же время лапти, лычная обувь была верным признаком бедности, крестьянского происхождения. Вот почему «не лыком шит» означало сначала: «он не из простых», а потом стало означать: «он такой уж он простак», «себе на уме».
Выражение это восходит к басне древнегреческого баснописца Эзопа «Лев, Лисица и Осел», сюжет которой — дележ добычи среди зверей — был после него использован Федром, Лафонтеном и другими баснописцами. В басне И. А. Крылова «Лев на ловле» (1808) Собака, Лев, Волк и Лиса сговариваются ловить зверей сообща и добычу делить поровну. Лиса, поймав Оленя, зовет товарищей. Приходит Лев и забирает все себе. На основе басенного сюжета выражение «львиная доля» первоначально употреблялось в значении: большая, лучшая часть чего-либо, полученная по праву сильного, а затем и просто: большая часть чего-либо.