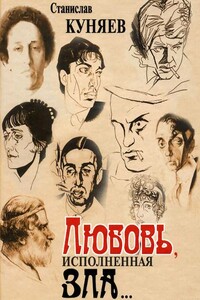Поэзия. Судьба. Россия: Кн. 2. …Есть еще океан | страница 59
И, однако, была закавыка, над которой мне не хотелось глубоко задумываться, но которая всегда царапала душу.
Национальное чувство в стихах грузинских поэтов любого поколения — от Георгия Леонидзе до Резо Амашукели — было всегда очень сильным и резко выраженным. Но были и среди них поэты с особой глубиной и цельностью этого чувства. Меня, как я уже писал, влекло к ним гораздо сильнее, нежели к другим, жившим в сфере массовой культуры или расхожего "общесоветского" мировоззрения. Поэтому, к примеру, когда я подружился с Шота Нишнианидзе, вникнул в его стихи и начал переводить их, то одновременно с радостью постижения глубины его творчества во мне время от времени появлялись сомнения: а не таят ли в себе стихи такого национального чувства некой разрушительной силы?
Помню, с каким увлечением я осваивал стихотворение о сельском учителе-стихотворце и поклоннике Важа Пшавела, который учил в горной деревне крестьянских детей грузинскому языку.
Даже название села — Алгети казалось мне чрезвычайно поэтичным, хотя потом оказалось, что это заурядная грузинская деревня, которая для Грузии значит не больше, чем для России Корекозово или Доможирово, что под Калугой.
Да, трагедия жизни заключались в том, что чем талантливее, чем "национальнее" были стихи, которые я переводил — будь то грузин Шота Нишнианидзе, бурят Дондок Улзьпуев или литовец Альфа Малдонис, — тем опаснее были они для нашей великой советской цивилизации. И чем вдохновеннее я переводил их на русский язык, тем неизбежнее я сам становился невольным соучастником грядущей нашей смуты.
Одно у меня есть оправдание — каждая такого рода переведенная мною книга была нашей общей радостью на унылом фоне изданий, состряпанных русскоязычными ремесленниками из переводческого клана.
Когда в Москве решено было издавать книгу Нишнианидзе "Черная ласточка" и я узнал, что строчкогон и бездарный рифмоплет Александр Глезер обхаживает издательских работников, чтобы получить эту рукопись для перевода, я встретился с ним и сказал ему со всей русской прямотой: