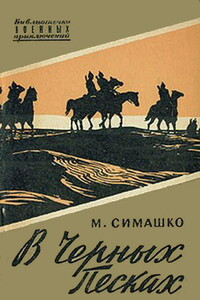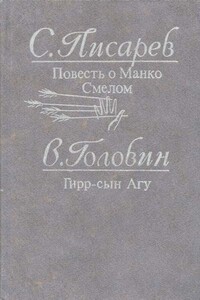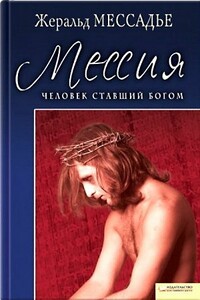Семирамида | страница 49
Так сказал в первый урок по ее выздоровлению отец Симон Тодорский. Умные, всенонимающие глаза его были так же печальны, как у пастора Моклера. Потом, уже уйдя от урока, говорил он пониженным голосом, что даже и магометанская вера имеет свое цивилизующее начало, ибо подходит к образу жизни тех народов, кои одним лишь нерассудительным божьим страхом укротить возможно, и где человек вовсе не присутствует в расчете. Потому и позволил бог таковую разность веры, что видит неодинаковость людей. Все же вместе рано или поздно придет к единству и спасению, за что и страдал на кресте сын божий.
Отцу она писала в Штеттин: «Светлейший князь! Осмеливаюсь писать Вашей светлости, чтоб попросить у Вас согласия на намерение ея императорского величества относительно меня… Так как я не нахожу почти никакого различия между верою греческою и лютеранскою, то я решилась — сообразуясь с милостивыми инструкциями Вашей светлости — переменить религию и пришлю Вам с первою же почтою мое исповедание веры…»
И снова показалось, что замедлилось движение: как будто сани в лёте наткнулись на препятствие. Она искренне улыбнулась эйтинскому мальчику — своему будущему мужу, и тот не отходил от нее. Вместе сидели они на окне прицарских келий Троице-Сергиевой обители и болтали ногами. Великий князь неровными зубами разгрызал орешки и прятал незаметно скорлупу в дыру у решетки…
Императрица но обету шла сюда пешком из Москвы. Ровный гул колоколов стоил в воздухе, наполняя каменные стены, деревья, траву, каждую частицу всего живого и неживого вокруг. Гремели земля и небо, отдаваясь разнотонным звоном в ближних и дальних городах и селениях, в полях и лесах этой земли. На версту стояли монахи с черными, изможденными постом лицами. Золото сияло, открытое солнцу, со всего собора, вышедшего навстречу во главе с архимандритом, с облачений и хоругвей, с занявших все небо куполов и крестов. Сверкающий строй лейб-компании знаменовал земной порядок.
Едва ступив в обитель и помолившись, императрица скорым шагом прошла к себе. Через десять минут она сама явилась к ним и, слова не сказав, позвала к себе княгиню Ангальт-Цербстскую. Мать ушла за ней с недоуменным видом и два часа уже не выходила оттуда. Они ждали на окне в переходе…
Началось с болезни, когда мать не заходила к ней, боясь оспы. И еще была ткань на платье: голубая с серебряным отливом, что подарил ей при отъезде из Цербста ее дядя. Мать со вниманием рассматривала эту ткань. И в дороге, когда просушивали вещи, подолгу держала ее в руках. Потом, уже в Москве, прислала к ней свою камер-фрау забрать эту ткань. Она велела сказать матери, что слушается, но ткань ей очень дорога как память о дяде. Но мать забрала ткань, а она плакала. О том сразу зашептались, качая головами. В тот же самый день императрица прислала ей много дорогих и прекрасных тканей, а одна из них была точно такая же — голубая с серебром…