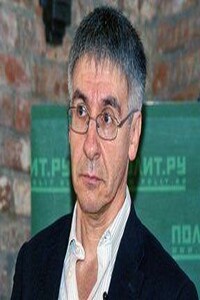Блаженные похабы | страница 5
Святость, становясь объектом историко-культурного рассмотрения, неизбежно перестает быть тем, чем она является для верующего; из априорной данности юродство превращается в сложную референцию, которая может в зависимости от культурных и политических обстоятельств наделяться бытийственностью или лишаться её [3]. Для православного вопрос стоит таким образом: как извлечь из памятников культуры свидетельства о реально существовавших юродивых? Мы же ставим в каком-то смысле противоположный вопрос: что побуждает культуру творить образ юродивого и как этот конструкт характеризует самое культуру?
В настоящей работе будут проанализированы по возможности все свидетельства о православном юродстве. В начальных главах, посвященных Византии, рассматриваются тексты главным образом на греческом языке. Что касается источников на иных языках, то в оригинале анализировались лишь латинские (и производные от латыни) и славянские тексты. Пространство восточно-христианской культуры весьма обширно и отнюдь не ограничивалось грекоязычным ареалом, но, увы, знакомство автора с текстами, написанными на сирийском, коптском, амхарском и других восточных языках было ограничено имеющимися переводами на европейские языки.
Что касается глав о древнерусском изводе интересующего нас культурного феномена (для отличения от византийского мы будем именовать его «похабством»), то в подробностях юродство прослеживается там лишь до конца XVII в. Рассказ о дальнейшей, по преимуществу «светской» эволюции данного института носит иллюстративный, отчасти даже импрессионистический характер.