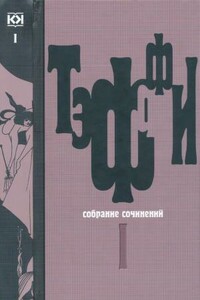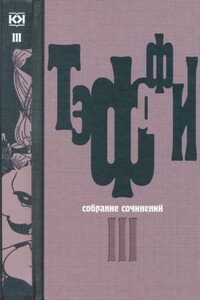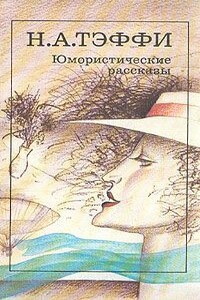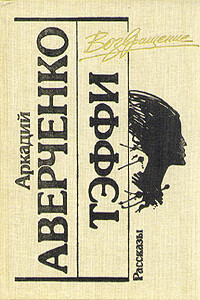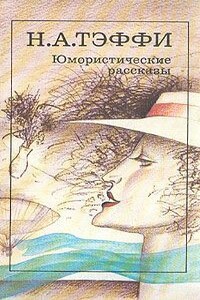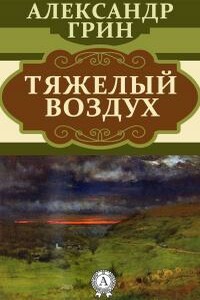Том 2. Карусель. Дым без огня. Неживой зверь | страница 73
— Яблок вышло фунта три, да сахару два, итого — пять. Белки считать нельзя — они воздушные. За яблоки заплачено рубль шестьдесят, за сахар — двадцать шесть, итого — рубль восемьдесят шесть. Извозчик к тетушке, туда и обратно, — шесть гривен. Два рубля сорок шесть. Два рубля сорок шесть разделить на пять — сорок девять копеек и одна пятая. Ну, к черту одну пятую. Сорок девять копеек — фунт чудеснейшей яблочной пастилы. Всего на девять копеек дороже лавочной мерзости. И притом сознание полной своей независимости. Чуть захотел яблочной пастилы, — взял да и сделал. Хоть в два часа ночи. И посылать никуда не надо. Взял да и сделал.
На рассвете Евгения Михайловна вдруг проснулась как от толчка.
Перед ней стоял Антон Петрович с каким-то коричневым комочком на блюдечке в одной руке и с ножом — в другой.
Антон Петрович улыбался жалко и растерянно, как нищий, которого упрекнули его рубищем.
— Вот, Женя, вот!
Он дрожащей рукой протягивал ей комочек.
— Вот, Женя, вот.
Евгения Михайловна вся задрожала.
— Кого ты там убил, несчастный?
— Па-пастила! — пролепетал он. — Ты все-таки попробуй. Только ее никак нельзя разрезать, не поддается… Если тебе не противно — лизни ее… Сделай милость, лизни! Женя, дорогая! Стоит всего сорок девять копеек и одна пятая. К черту одну пятую… Всего сорок девять копеек, и все свежее… И главное — независимость… Захотел — взял да и сделал.
Он сел на кровать, вытер лоб и повторил с безнадежным отчаянием:
— Когда угодно. Хоть ночью… Взял, да и сделал!..
Амалия
Госпожа Амалия Штрумф обладает сорокапятилетним возрастом, шестипудовым весом и небольшим поместьем в окрестностях Берлина.
В санаторию она приехала, чтобы утереть нос всем своим соседям. Пусть поймут, что она — птица важная. Может ездить за триста километров. Но первые же дни лечения потрясли всю душу Амалии до основания: доктор запретил ей кофе со сливками и кухены[2].
Амалия покорилась, но душа ее стонала. Утром, проходя мимо булочной, Амалия приостанавливалась, смотрела на печенья, торты и пирожные и шептала их названия шепотом тихим, глубоким и страстным, как шепчут влюбленные женщины имя своего любовника:
— Занфткухен!.. Шмандкухен!.. Беренкухен… Цвибак… Цвибак… Цвибак…[3]
С трудом отрывалась она от окна и шла, качаясь, с полузакрытыми, опьяненными глазами.
Шла в санаторию, тупо жевала салат с лимонным соком и молчала весь день. Молчала потому, что о чем же можно говорить, когда душа плачет, и стонет, и шепчет: