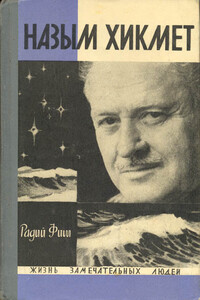Джалалиддин Руми | страница 61
Он остановился, тяжело дыша. Огляделся, медленно возвращаясь к действительности.
Свеча догорала. За стенами все еще стояла глухая ночь. А ведь прежде, бывало, мог он кружиться в самозабвении до утра и, передохнув немного, снова плясать до полудня, а то и до вечера.
Никого не приходилось ему в жизни стыдиться. А теперь вот испытывал он стыд перед собственным телом. Стыд, подобный тому, который испытывает всадник, когда цель достигнута, перед дрожащим, загнанным конем, которого он безжалостно хлестал в своем стремлении к этой цели.
С трудом, на ватных дрожащих ногах сделал он шаг. От тени отделился Велед, почтительно поддержал отца под руку. Это он, Велед, услышав взволнованный голос Джалалиддина, взял ребаб и вышел к нему в полутемную залу.
Отец глянул на него, не узнавая. Да и трудно было представить себе, что пожилой мужчина в круглой шерстяной шапочке, наспех обернутой чалмой, в коротком разрезном кафтане с вышитыми на обеих сторонах груди изображениями не то двух пар сердец, не то кипарисов, возносящихся к сводам, на которых начертаны священные письмена, что этот пегобородый мужчина, который, зажав под мышкой ребаб, бережно поддерживает его под руку, и есть его сын Велед, зачатый той далекой ночью в Ларенде, когда, подталкиваемый по обычаю кулаками в спину, он вошел в брачные покои и лег на ложе незабвенной Гаухер-хатун.
Той ночью, от которой его теперь отделяло полвека, мелькнувшие, как полмига, он, оглушенный счастьем, не думал ни о стихах, ни об истине, ни даже о любви. Бессознательно совершив омовение, вслед за Гаухер повторил он все слова, что должно было повторить согласно шариату первой брачной ночью, и склонился над нею, как тростник под ураганным ветром клонится к озерной глади. Круглое лицо, зардевшееся, будто восходящая луна, гибкая шея, манящая беззащитной покорностью, угадывавшиеся под одеждой белоснежные ангорские ягнята грудей с призывно торчащими рожками сосков, податливое лоно, таящее могущество творца, одухотворенность, просвечивавшая в каждом изгибе тела, — во всем была такая зовущая готовность, такая неодолимая сила слабости, что мгновенная вспышка исступления, подобная тем, которые озаряли его в уединении с природой, но во сто крат яростней, опалила его, закружила и понесла. Под полуденным зноем этого исступления гладь, скованная прохладой предутреннего ожидания, закипая, взметнулась ему навстречу, волны захлестнули его, растворив без остатка, как растворяет море пролившийся ливень.