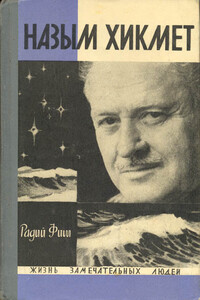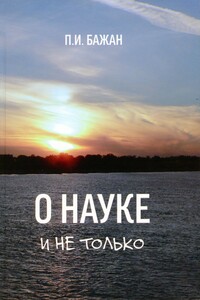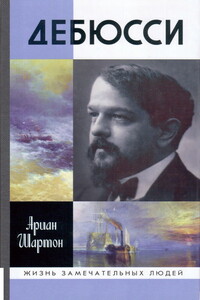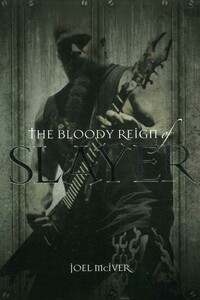Джалалиддин Руми | страница 45
Музыка — как женщина. Можно употреблять ее, точно наложницу, усыпляя в себе человека и теша скота, как употреблял халиф Насир Лидиниллах.
Но можно и любить ее, стремиться к слиянию с нею в единое и так сделать первый шаг к пробуждению в себе истинной человеческой сущности.
Сэма — блаженное слушание. И оно так же отличается от развлечений халифа, как любовь от похоти.
Да, он мог понять отца и сейчас. Султан Улемов знал, что такое сэма. И если все же ратовал против музыки, то на это у него была другая причина.
Сэма — пробуждение. Но узник в темнице не желает пробуждения: оно лишний раз подтвердит его плен. Тот же, кто заснул в розовом саду, просыпается с радостью, тем более что сны его были тягостны. Музыка для свадеб и праздников — не для траура.
«Все суфии до сей поры, даже такие великие поэты, как Санайи и Аттар, больше говорили о разлуке. Наша же речь — о свидании. В этом суть».
Султан Улемов весь принадлежал к прежней эпохе плача и стенаний. Его сын Джалалиддин предвещал новую.
Воистину благословенна судьба, что в Конье простой народ любит музыку и стихи. После того как он, Джалалиддин, прожил здесь почти полвека, звуки ная и ребаба, голоса певцов, и правда, стали слышаться в городе не реже, чем заунывное причитание муэдзинов. И когда хоронят кого-либо из его учеников, не хафизы, читающие Коран, не имамы идут впереди носилок, а музыканты и мюриды, пляшущие и поющие песни на стихи учителя, ибо лежит на носилках не просто мусульманин, а ашик, что значит влюбленный. Влюбленные же не умирают. «Не о разлуке, а о свидании наша речь…»
Но чтобы вести речь о свидании, надо было познать все виды разлук, подобно тому, как иные познают все сорта дынь, все виды начертания букв, все движения звезд.
И первая из них — разлука с родиной свершилась для него в Багдаде…
От проповеди, которую Султан Улемов по просьбе шейха Сухраварди прочел в соборной мечети Багдада, в памяти Джалалиддина осталось только великолепие ковров, устилавших пол, громады свисавших со свода светильников, дробивших пламя сотен свечей в граненых хрустальных подвесках, тесные ряды толпы, бороды улемов, но ни одного лица, ни одного слова из пророчески грозной речи отца, — верно, она повторяла уже слышанное.
Однако и сейчас, через полвека, стоило закрыть глаза, как перед ним в мельчайших деталях — до крохотного развода, похожего на молодой огурец, вставало пятно на обмазанной глиной стене в келье багдадского медресе, перед которой он провел бессонную ночь. На этой стене разыгрались перед ним страшные картины вечной разлуки с Балхом.