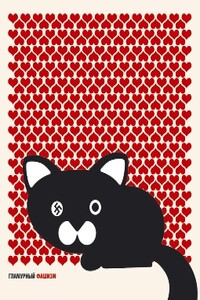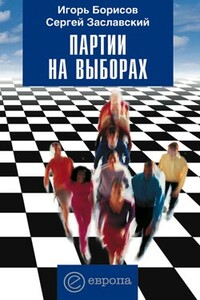Экспертократия. Управление знаниями: производство и обращение информации в эпоху ультракапитализма | страница 7
Доминирование в современном обществе сферы услуг (характерное в том числе и для нашей страны) приобрело совершенно иной характер, нежели это предполагали теоретики постиндустриализма на рубеже 1960-1970-х годов. Тогда считалось, что развитие сферы услуг будет происходить в рамках доминирования интеллектуальных профессий, связанных с производством нового знания. Теперь оказалось, что это совершенно не так: создатели постиндустриальных утопий просто спроецировали на будущее общество ситуацию, характерную для эпохи 1960-х, когда интеллектуалы не только продолжали играть роль «властителей дум», но часто являлись политическими фигурами в самом прямом смысле этого слова.
Теперь стало ясно, что в прошлое ушел не только образ «всеобщего интеллектуала» в духе Сартра, но и образ «частичного», или «специфического», интеллектуала в духе Фуко.
«Всеобщий интеллектуал», миссия которого была связана с провозглашением универсальных норм, являлся наследником законотворца XVIII века, ответственного за устройство гармоничного общественного порядка.[8] По собственной инициативе «всеобщий интеллектуал» исполнял завидную роль «совести нации». «Специфический», или «частичный», интеллектуал был иной фигурой. Он обладал значительным социальным весом не в силу претензии на некую всеохватность, но исключительно в силу специфической компетенции, которой был наделен.
Образцовым воплощением «частичного интеллектуала» был, по мнению Мишеля Фуко, университетский преподаватель (сменивший писателя, литератора, который, в свою очередь, пришел на смену юристу). Как констатировал в свое время Фуко: «…писатель как лицо выдающееся начинает исчезать, а возникают преподаватель и университет, может быть, не как главные составляющие, но как „пункты обмена“, как исключительные точки пересечения. В этом, безусловно, и кроется причина того, что университет и преподавание становятся политически сверхчувствительными областями. А то, что называют кризисом университета, следует понимать не как утрату силы, но, наоборот, как приумножение и усиление его властных воздействий в среде многоликого сообщества интеллектуалов, которые практически все через него проходят и с ним соотносятся». [Цит. по: Фуко М. Политическая функция интеллектуала // Интеллектуалы и власть. Т. 1. М., 2002. С. 202.]
Но теперь, похоже, «интеллектуал» не только не претендует на сколько-нибудь значимую миссию в обществе, но даже не может сформулировать, зачем она нужна и в чем может находить подтверждение. Тем более не претендует он и на роль «совести нации» или «властителя дум». В итоге ему приходится довольствоваться заведомо подчиненным положением, причем подчиненным положением именно в «обществе знаний», которое, казалось бы, призвано было стать для него земным раем.