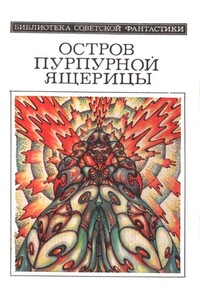День народного единства: биография праздника | страница 49
После реформы отечественного календаря в 1918 г. даты всех церковных праздников были передвинуты на 13 дней вперед. Однако если буквально следовать исторической хронологии, то для перевода даты XVII в. на новый стиль нужно прибавлять 10 дней. Связано это с тем, что при введении григорианского календаря в 1582 г. его разница с юлианским составляла 10, а не 13 дней (в дальнейшем за столетие накапливалась хронологическая погрешность примерно в одни сутки). Дата нового государственного праздника – 4 ноября, вольно или невольно, взята современными законодателями из церковного календаря, поэтому она оказалась связанной с началом штурма Китай-города, а не с его взятием [32, 220–238]. Окончательное очищение Москвы от гарнизона польско-литовских войск произошло 26–27 октября по старому стилю, или 5–6 ноября по новому стилю [33].
Однако список этой иконы попал еще в Первое ополчение летом 1611 г., а значит, она не может вполне считаться покровительницей одного ополчения – Кузьмы Минина и князя Дмитрия Михайловича Пожарского. По преданию же, князь Дмитрий Михайлович Пожарский заказал для себя список Казанской иконы Богоматери, когда находился с нижегородским ополчением в Ярославле в 1612 г. Когда в 1636 г. на Красной площади в память о событиях, предшествовавших избранию на царство Михаила Федоровича, открывался Казанский собор, то все детали появления чудотворной иконы в полках под Москвой были уже не столь существенны. Главное, что список этой иконы действительно был в земском ополчении и именно с ней «вся земля» связала свою победу.
«Совет всея земли»
Четыре месяца – с 26 октября 1612 г. по 25 февраля 1613 г. – власть в Москве оставалась в руках земского правительства во главе с князьями Дмитрием Тимофеевичем Трубецким и Дмитрием Михайловичем Пожарским. Это был переходный период, главным содержанием которого стали выборы нового царя. В те дни, когда действовавший в ополчении «Совет всей земли» получил власть в Москве,[20] в Речи Посполитой «дозрели» до того, чтобы наконец-то представить юного самодержца Владислава Московскому государству.
Сейчас ноябрьский 1612 г. поход короля Сигизмунда III вместе с королевичем Владиславом к Смоленску и далее, к Москве, выглядит малообъяснимым. Хотя для едва народившегося земского правительства грядущее столкновение с польско-литовскими отрядами, возглавлявшимися полковниками Александром Зборовским и Андреем Млоцким, не сулило ничего хорошего. Король же действовал так, словно не было более чем двухлетнего промедления с исполнением договора с гетманом Станиславом Жолкевским о призвании королевича Владислава, а польско-литовский гарнизон по-прежнему удерживал в своих руках столицу. Сигизмунд III слал впереди себя послов – объявить Боярской думе свой приход. Но он опоздал и только зря потратил казну. Дальше Волока королевскому войску двинуться уже не пришлось, несостоявшийся претендент на русский трон вынужден был вернуться домой в Речь Посполитую. Что же заставило короля Сигизмунда III так быстро смириться с потерей выскользнувшей из его рук московской короны?