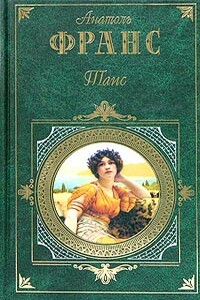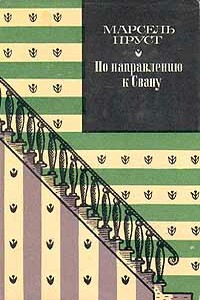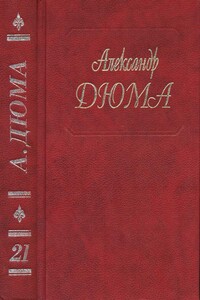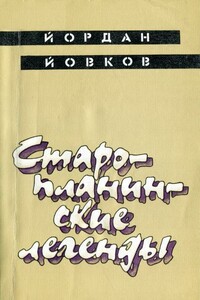Утехи и дни | страница 49
II. После обеда
Оноре, чувствуя, что от выпитых вин у него слегка кружится голова, вышел не простившись, взял внизу свое пальто и пошел пешком через Елисейские поля. Он испытывал огромную радость. Барьер невозможности, который закрывает от наших желаний и нашей мечты поле действительности, был сломан, и он радостно мечтал о несбыточном.
Таинственные аллеи, которые ведут к каждому человеческому существу и в глубине которых каждый вечер, быть может, заходит неподозреваемое солнце радости или печали, влекли его к себе. Каждое лицо, о котором он думал, сейчас же становилось непреодолимо милым; он прошел всеми теми улицами, на которых мог надеяться встретить кого-нибудь из них, и если бы его предвидение сбылось, — он, не боясь, подошел бы к незнакомому или просто безразличному ему человеку. Декорация, поставленная слишком близко, упала, и вдали жизнь встала перед ним во всем очаровании своей новизны и тайны, привлекая его к себе. Но горькое сознание того, что это был только мираж или действительность одного вечера, повергло его в отчаяние. Он страдал лишь оттого, что не мог немедленно достичь всех тех прекрасных ландшафтов, что были расположены в бесконечности, далеко от него. И вдруг его поразил звук собственного голоса, грубоватого и резкого, который вот уже четверть часа повторял: «Жизнь печальна, какой идиотизм!» (Это последнее слово подчеркивал сухой жест правой руки, и он заметил неожиданно резкое движение своей трости.) Он с грустью подумал, что эти машинальные слова были очень банальной передачей видений, которые, быть может, были непередаваемы.
«Увы! Только интенсивность моей радости или моей печали возросла во сто крат, а интеллектуальный повествователь остается все тем же. Мое счастье — нервное, личное, непередаваемое другим, и, если бы я стал писать в этот момент, мой стиль отличался бы теми же достоинствами и теми же недостатками. Увы, был бы таким же посредственным, как и всегда». Но блаженное состояние, в котором он пребывал, не позволяло ему думать об этом дольше и немедленно даровало ему высшее утешение — забвение. Он вышел на бульвар. Проходили люди, которым он отдавал свою симпатию, уверенный в том, что она взаимна. Он чувствовал себя великолепным средоточием их внимания; он распахнул пальто, чтобы они видели белизну манишки его фрака и красную гвоздику в петлице. Таким являл он себя восхищению прохожих и нежности, сладостно его с ними соединявшей.