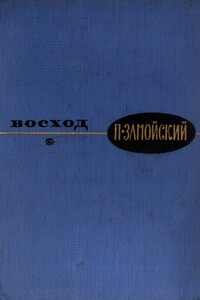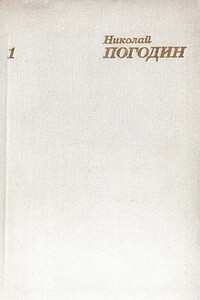Смятение | страница 27
Ночью он пробирался полем, как вор, из деревни сюда, рискуя всем ради этой самой красоты. Она встретила его под липой на дальнем краю усадьбы. Еще издали он заметил в сумраке ее светлый плащик. Когда же остановился перед ней, руки его непонятно, предательски дрожали. Молчал, чтоб не изменил и голос. Она тоже молчала. И он обнял ее, припал к губам, покрыл поцелуями шею…
Вступление не затянулось. Точно они, не сговариваясь, решили засчитать все, что было у них тогда — семнадцать лет назад. Чеся взяла его за руку и, шепотом приказав молчать и быть осторожным, повела к окну. Старые рамы, будто тоже по ее приказу, неслышно растворились. Леня проник в комнату. Оттуда, в совсем уже юном опьянении, он помог ей легко перебраться через подоконник.
…Окно осталось открытым и дышало на них чуть загадочной, волнующей и приятной свежестью апрельской ночи.
Чеся, отдыхая, курила. И ему это нравилось. Именно тот момент, когда она подносила сигарету к губам и затягивалась. Огонек оживал, выхватывал из мрака ее лицо на подушке в сумятице волнистых светлых волос и столь соблазнительный, оттого что непривычный, треугольник блестящей цепочки, сбегающей над молодой еще грудью к маленькому медальону. Облокотившись на левую руку, на которой покоились ее шея и плечи, он смотрел на нее сбоку, любовался добытым сокровищем. И вдруг не выдерживал — касался этой пышной, душистой, жаркой нежности припухшими от поцелуев губами…
Прикурив у нее, он улыбнулся:
— А ему у тебя хорошо.
— Кому?
— Да Иисусику. Ишь ты, примостился!..
Теплые плечи на его руке передернулись. Она раздавила огонек в блюдце на тумбочке и, еще помолчав минутку, сказала:
— Не люблю, когда кощунствуют.
— А ты что — веришь?
— Не только.
— А что еще?
— Еще и воюю за это.
— С кем?
— С безбожниками, с коммуной.
— С коммунистами — в Народной Польше?
— Тра-ля-ля-ля! А только что говорил: «Знаю, что у вас там делается…» В конце концов… — Она протянула левую руку, которой недавно держала огонек, и нежно провела по его волосам. — В конце концов, кохане мое, я на твоем месте не так уж стояла бы за них. Мне кое-что известно…
— Что?
— То самое. Как они заплатили тебе за верную службу.
Он помолчал. Сказал со щемящей гордостью в голосе:
— А что ты в этом понимаешь?
— Да тут и понимать нечего.
— Не понимая, оно и легче.
— Ты сердишься? Не надо, кохане. Я не хотела тебя обидеть. Ну, не надо…
Она попыталась вывести их из тупика, вытащить ту белую нитку, что уже довольно приметно проступила между их чужими… — да, он почувствовал это как будто впервые! — их чужими, такими разными душами… Более того, в нем накипала, наливаясь прежней силой, его бедняцкая, его партизанская злость на нее, воскресала вновь давняя обида на коварство, которым ему заплатили за откровенность, за желание помочь. И к этой обиде и злости, еще усиливая их, присоединилась злость на себя… Из-за слов ее, вот этой былой королевны, что так легко стала и для него веселой искательницей красивых приключений, из-за этих по-шляхетски высокомерных слов о самом для него дорогом, самом святом, против воли выплыл, холодным, болезненным укором встал вдруг перед ним образ Алеси…