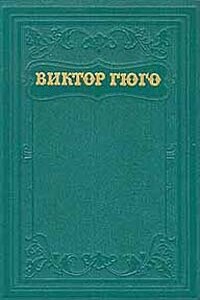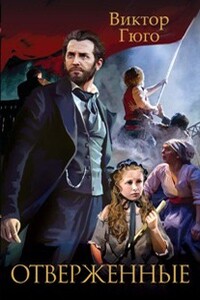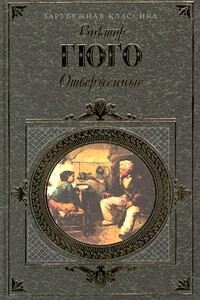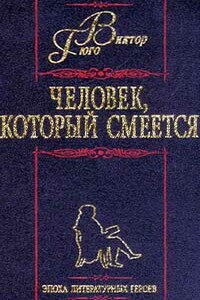Том 14. Критические статьи, очерки, письма | страница 22
Не будь это слишком высокопарно, автор в заключение сказал бы, что в оды он вложил больше души, а в баллады больше воображения.
Впрочем, он придает этой классификации лишь то значение, которого она заслуживает. Многие особы, чье суждение имеет вес, говорили в свое время, что его оды — не оды; пусть так. Многие другие, конечно, скажут, с не меньшим основанием, что его баллады — не баллады; допустим, что и это верно. Дайте им любое название, — автор заранее готов подписаться под ним.
В связи с этим он решается высказать несколько мыслей, совершенно не касаясь, однако, собственных произведений, столь несовершенных.
Мы слышим каждый день, как в связи с вышедшими в свет литературными произведениями говорят о достоинстве одного жанра, о приличии другого, о границах того жанра, о свободе этого; трагедии запрещается то, что дозволено роману; песня допускает то, что отвергает ода, и т. д. К несчастью, автор ничего не понимает во всем этом; он ищет здесь смысла, но видит одни только слова; ему кажется, что действительно прекрасное и правдивое остается прекрасным и правдивым везде; и то, что драматично в романе, будет драматично и на сцене; то, что лирично в куплете, лирично и в строфе; и что существует, наконец, только одно различие между творениями человеческого духа — различие между хорошим и плохим. Мысль — это богатая, но невозделанная земля, и плоды ее вырастают на свободе как бы по воле случая; они не разделены по сортам, не рассажены по ниточке на клумбах и грядах, как цветы в классическом саду Ленотра или как цветы красноречия в риторическом трактате.
Не следует, однако, думать, что такая свобода порождает беспорядок; как раз наоборот. Поясним нашу мысль. Сравните на миг королевский парк в Версале, весь выровненный, весь подстриженный, весь вычищенный, выметенный, посыпанный песочком, полный маленьких каскадов, маленьких бассейнов, маленьких рощ, бронзовых тритонов, чинно резвящихся на тех океанах, что наполняются насосами из Сены и обходятся втридорога, мраморных фавнов, любезничающих с дриадами, аллегорически окруженными множеством конических тиссов, цилиндрических лавров, шарообразных апельсиновых деревьев, эллиптических миртов и прочих растений, чья естественная форма, конечно слишком тривиальная, изящно исправлена ножницами садовника; сравните этот прославленный парк с первобытным лесом Нового Света, с его гигантскими деревьями, высокими травами, глухими зарослями, полными тысяч тысячецветных птиц, с широкими прогалинами, где свет и тень играют только на сочной зелени, с его дикой гармонией, с полноводными реками, по которым словно плывут острова цветов, с огромными водопадами, окруженными радугой брызг! Мы не будем спрашивать: где великолепие? где величие? где красота? Мы спросим только: где же порядок и где беспорядок? Здесь плененные или отведенные от своего природного русла воды брызжут только для того, чтобы застаиваться и гнить; здесь боги, высеченные из камня; здесь деревья, пересаженные из родной почвы, насильно разлученные с родной страной, лишенные даже своей естественной формы, своих плодов и вынужденные покориться уродливым капризам шнура и садового ножа; здесь, одним словом, во всем нарушен, извращен, перевернут, уничтожен естественный порядок. Там, напротив, все подчиняется одному незыблемому закону; кажется, во всем живет здесь бог. Капли воды стекают по своему естественному склону и образуют потоки, потоки вливаются в моря; семена выбирают себе подходящую почву, и из них вырастает лес. Всякий побег, всякий куст, всякое дерево родится в свое время, растет на своем месте, приносит свой плод, умирает в свой час. Даже тернии здесь прекрасны. И мы спрашиваем снова: где порядок?