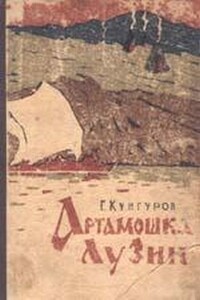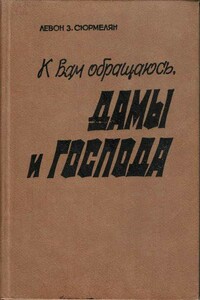Письма к Луцию. Об оружии и эросе | страница 108
Толпа — почитатели богини из окрестных мест, из всех семнадцати самых преданных нам городов Сицилии[239] и не только — радостно шумела. Я поймал себя на мысли, что впервые после более чем двух месяцев воспринимаю присутствие людей.
Некоторое время спустя, меня окликнули. Наш давний знакомый — Гай Сервилий[240]. Внешне он почти не изменился и стал уже почти законченным Доссенном, хотя и без горба[241]. Сервилий был в обществе нескольких человек, среди которых оказалась и женщина, с которой мне было суждено провести много целительных часов днем и несколько ночей, не только окончательно вернувших меня к жизни, но и сделавших сильнее.
Зовут ее Флавия, и имя ее совершенно соответствует ее облику[242]. Глаза ее напоминают гемму из сердолика, которая каким-то образом, к счастью, оказалась разбита: на ее шероховатом сколе совершенно неправильной формы переливается свет, и это придает камню исключительную живость. Ее волосы показались мне очень знакомы: почему, я понял впоследствии. Она — римлянка, что особенно приятно после всех этих кампанок, гречанок, апулиек, сиканок, сириек, ливиек и прочей южной экзотики. Более того: она не просто римлянка, но почти моя землячка, из Фалерий и говорит не только на нашем языке (и, естественно, по-гречески), но и на забавном фалискском наречии[243], которое мне часто доводилось слышать в детстве. На нашем языке она говорит прекрасно, хотя сбивается иногда на фалисский, что приводит меня в умиление. Тем не менее, иногда во время наших ласк, чтобы понять ее, мне приходилось мысленно переводить с нашего языка на греческий, поскольку изрекала она довольно смешные несуразности (например, «Non potesti те finire»[244]): ее постельный язык, — по крайней мере, последние десять лет, — в основном греческий. И все же несколько раз с губ ее слетело даже сабинское spurium, напомнившее мне говор моего детства, хотя в общем-то слово это не «детское»[245].
Впрочем, все это было уже потом — по прошествии дней, счесть которых я не могу, ибо эта действительность — или недействительность? — не поддается обычному счету. Все это было уже потом, когда настала иная жизнь — та, в которой я пребываю теперь. Наступило прозрение.
Сервилий представил меня своим спутникам как твоего друга и соратника: первое верно абсолютно, второе тоже верно, но теперь — увы! — относительно. И мне он тоже представил своих спутников, из которых я не запомнил по имени ни одного. Это были бледнейшие личности, составлявшие все вместе нечто вроде кучи рыбы, которую продают корзинами. Компания Сервилия направлялась в приморскую таверну близ Лилибея, и Сервилий пригласил меня разделить их непонятно чем приподнятую радость, напоминающую радость клюющей крошки воробьиной стаи. Голубиный полет Венеры-Таннит все еще пребывал у меня перед глазами, ветерок, шедший от хлопанья их крыльев, обвевал мое лицо.