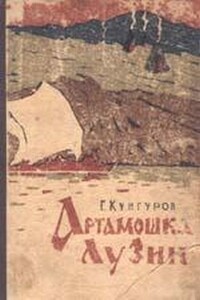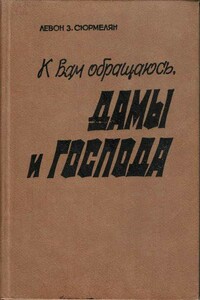Письма к Луцию. Об оружии и эросе | страница 101
В изысканнейших забавах той нашей постельной борьбы очень существенную роль сыграл кусок финикийского стекла — затемненный солнечный свет, сгущенный старинным мастером до состояния шарика, мой пресловутый слоновий электр Ктесия Книдского. Мы совершенно безумно вращались вокруг него, словно планеты вокруг солнца, если только верна гелиоцентрическая теория Аристарха Самосского.
Никогда больше Сульпиция не была столь изобретательна, ибо никогда больше не совокуплялась она в столь приподнятом состоянии духа, потому как всех ее любовников — и не только любовников — превзошел я своей преклоняющейся перед знанием глупостью. А я никогда больше не был таким возмущенно бешеным в своих ласках, ибо никогда больше не было мне так стыдно. Это никогда больше Сульпиции относится не только к тем временам, когда она обучала меня ars amatoria, но и ко всей ее богатейшей vita amatoria. В этом призналась мне она сама, когда после стольких лет разлуки я посетил ее перед тем, как покинуть Рим и заняться изысканиями в области ars gladiatoria. Она уже окончила свою vita amatoria, побежденная подло-коварными пушистостями, и носит теперь мой слоновий электр в перстне, как Прометей носил на пальце оправленный в золото крошечный осколок от скалы Кавказа. Она носит зажигательное солнышко наших постельных схваток из никогда больше.
С тех пор я не забываю совершать возлияние в честь Меркурия.
Я очень благодарен ученейшему богу-пройдохе за то, что он послал мне тогда этого грека или сам же явился в его образе. С тех пор я предпочитаю заранее слегка посмеяться над самим собой, чтобы не смеяться впоследствии громко-печальным смехом. С тех пор я отношусь к грекам так, как отношусь к ним. С тех пор я знаю, что во время постельной борьбы должно неустанно сиять маленькое солнце веселья.
Пожалуй, я слишком увлекся моими юношескими воспоминаниями о Риме. Мне было приятно несколько отвлечься, да и тебя отвлечь, Луций, от моих недавних черных дней и черных метаний, когда я носился по Сицилии Черным Всадником.
Итак, возвращаюсь к Эврипиду. Его ссылка на Ктесия, пробудившая в памяти моей образ грека, посланного Меркурием, сразу же охладила восторг перед кинжалом, вызвав враждебную настороженность. Я холодно велел ему не лгать, но он уже с чувством несправедливо обиженного принялся горячо доказывать, что кинжал найден в могиле некоего индийца среди прочих диковинных предметов с надписями на индийском языке. Это еще больше разозлило меня, поскольку «индийцами» называют всех вожатых слонов, не зависимо от их происхождения, и слова Эврипида о могиле «индийца» на Сицилии, да еще с надписями на индийском языке (которого мой грабитель, естественно, не мог знать) я счел самой что ни на есть неумелой ложью. Эврипид ужасно обиделся, словно было задето его честолюбие, о существовании которого я даже не подозревал. Он обиделся не только за себя (или сделал вид, что не только за себя), но и за Ктесия, который видел воочию слонов в Вавилоне и оставался для Эврипида непоколебимым авторитетом во всем, а не только в отношении слонов. Я велел ему забрать свой кинжал и не показываться мне больше на глаза. Он рассвирепел, бросил эту несомненно очень интересную и дорогостоящую вещь к моим ногам и, закричав, что вообще не желает от меня денег (для грека явление совершенно невероятное), резко повернулся и ушел.