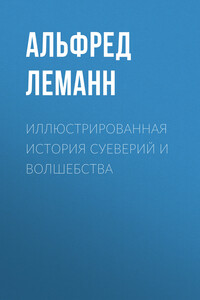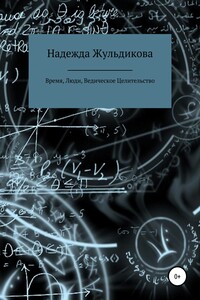Истина и наука | страница 5
Последующие рассуждения стремятся прежде всего к такой формулировке проблемы познания, при которой строго будет соблюден характер теории познания как науки, вполне лишенной предпосылок. Они хотят также осветить отношение фихтевского «Наукоучения» к такой основной философской науке. Почему приводим мы в более тесную связь с этой задачей именно фихтевскую попытку создать для науки безусловно достоверную основу, это само собою выяснится в течение исследования.
2 Основной теоретико-познавательный вопрос Канта
Создателем теории познания в современном смысле этого слова обыкновенно называют Канта. Против такого взгляда можно было бы, конечно, справедливо возразить, что история философии до Канта знает много исследований, которые, конечно, должны считаться все же чем-то большим, нежели простыми зачатками подобной науки. Так Фолкельт в своем основном труде по теории познания[3] замечает, что критическая обработка этой науки берет свое начало уже у Локка. Но и у более ранних философов, даже уже в философии греков, можно найти рассуждения, какими в настоящее время принято пользоваться в теории познания. Однако все принимаемые здесь во внимание проблемы были вскрыты Кантом во всей их глубине, и многочисленные мыслители, примыкая к нему, так всесторонне проработали эти проблемы, что встречавшиеся раньше попытки их разрешения мы находим снова либо у самого Канта, либо у одного из его эпигонов. Когда таким образом дело идет о чисто фактическом, а не историческом изучении теории познания, то едва ли мы упустим какое-либо важное явление, если учтем лишь время, начиная с появления Канта с его «Критикой чистого разума». То, что было дано раньше на этом поприще, повторяется снова в эту эпоху.
Основной теоретико-познавательный вопрос Канта следующий: каким образом возможны синтетические суждения a priori. Рассмотрим этот вопрос с точки зрения его свободы от предпосылок. Кант потому ставит этот вопрос, что держится того мнения, что мы можем достичь безусловно достоверного знания только тогда, если мы в состоянии доказать правомерность синтетических суждений a priori. Он говорит: «В разрешении указанной выше задачи заключается одновременно возможность чистого употребления разума при обосновании и изложении всех наук, которые содержат теоретическое познание a priori предметов»,[4] и «от разрешения этой задачи зависит всецело возможность метафизики, а следовательно, и ее существование».