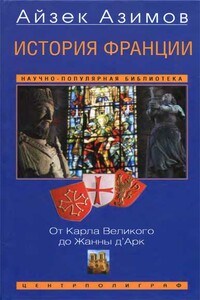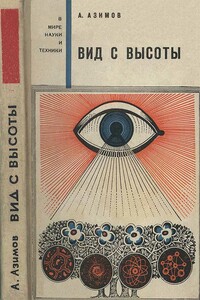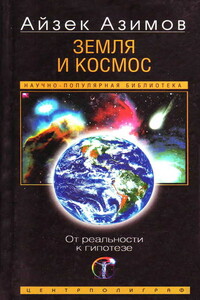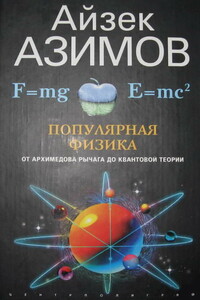Краткая история биологии | страница 55
Немецкий физиолог Карл Фойт (1831–1908), ученик Либиха, вместе с немецким гигиенистом Максом Петтенкофером (1818–1901) построили калориметр достаточно большой, чтобы помещать в него животных и даже человека. Результаты их экспериментов подтвердили, что у живых тканей нет других энергетических источников, кроме тех, которые имеются и в неживом мире. Ученик Фойта Макс Рубнер (1854–1932) продолжил исследования и экспериментально доказал приложимость закона сохранения энергии к организму животного. Сравнивая количество азота, содержащегося в моче и фекалиях, с количеством его в пище, которой кормили подопытных животных, он показал (1884), что углеводы и жиры не могут быть единственным топливом, поступающим в организм. Молекулы белка после отщепления азотсодержащей части также могут использоваться как топливо. Учитывая белок как источник энергии, Рубнер смог получить более точные данные. К 1894 г. он установил, что энергия, выделяемая пищевыми продуктами в организме, точно равна энергии, которую можно получить при сжигании этих продуктов вне организма (с учетом количества энергии, содержащейся в моче и фекалиях).
Итак, закон сохранения энергии справедлив как для неживого мира, так и для живого. Открытие этого закона нанесло сокрушительный удар по виталистическим воззрениям.
Новые количественные методы нашли применение и в медицине. Немецкий физиолог Адольф Магнус-Леви (1865–1955) определил нижний уровень энергетического обмена у человека (темп основного обмена веществ — ООВ). Магнус-Леви нашел при этом значительные изменения ООВ при заболеваниях, связанных с щитовидной железой. С этого времени измерение ООВ стало важным методом диагностики.
Брожение
Успехи калориметрии во второй половине XIX в. не затронули, однако, самых основ витализма. И человек и скала, на которой он стоит, материальны. Но между формами этих материй — непреодолимая грань, отделяющая органическую материю от неорганической. Когда оказалось, что эта грань стирается, виталисты ухватились за белок. Кроме того, признав доступность для живого энергии неживого мира, они были убеждены, что методы использования этой энергии в корне отличны.
Так, горение вне организма сопровождается выделением большого количества тепла и света; процесс протекает стремительно. При сгорании пищи в организме образуется небольшое количество тепла и свет не выделяется. Температура организма в норме держится около 36,8°, горение протекает медленно и прекрасно регулируется. Когда химик пытается воспроизвести в лаборатории реакцию, характерную для живых тканей, он вынужден прибегать к сильнодействующим средствам — высокой температуре, электрическому току, сильным химическим реактивам, — в которых живые ткани не нуждаются.