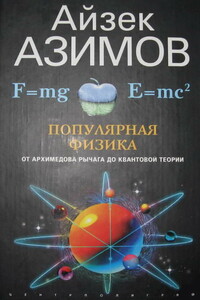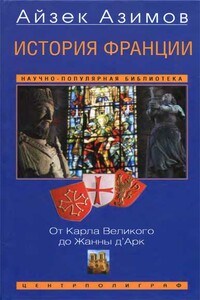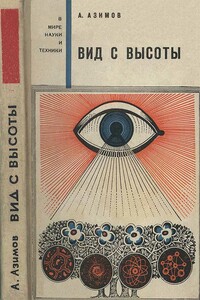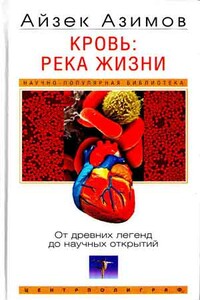Краткая история биологии | страница 19
Начала биохимии
Разумеется, тело можно считать механизмом, и не прибегая к аналогиям с рычагами и приводами, а происходящие в организме процессы можно объяснить не только физическим, но и химическим взаимодействием.
Первые химические эксперименты на живых организмах провел голландский естествоиспытатель Иоганн Баптист Ван-Гельмонт (1577–1644), современник Гарвея. Ван-Гельмонт выращивал иву в сосуде с определенным количеством почвы. Через пять лет, на протяжении которых он регулярно поливал иву только водой, вес дерева увеличился на 73 килограмма, а земля потеряла только 57 граммов. Исходя из этого, Ван-Гельмонт пришел к выводу, что дерево черпает нужные ему вещества не из почвы (совершенно верно), а из воды (неверно, по крайней мере частично). Его ошибка заключалась в том, что он не принял в расчет воздуха, — злая ирония судьбы, ибо именно Ван-Гельмонт первым стал изучать газообразные вещества. Это ему принадлежит слово «газ», он открыл так называемый «лесной дух», который впоследствии оказался не чем иным, как углекислым газом — основным источником жизни растений.
Работы Ван-Гельмонта в области химии живых организмов (или, как мы ее теперь называем, биохимии) получили дальнейшее развитие в трудах других исследователей. Одним из первых энтузиастов биохимии был Франциск де ла Боэ (1614–1672), известный под латинизированным именем Сильвия. Представление об организме как о химическом аппарате он довел до крайности; так, по его словам, пищеварение — чисто химический процесс, действие которого сходно с химическими изменениями, происходящими во время брожения (в этом он оказался прав). Далее он предположил, что правильное функционирование организма зависит от баланса химических компонентов тела; болезнь — это результат либо избыточного, либо недостаточного содержания в организме кислоты. Это утверждение Сильвия в какой-то мере справедливо. Однако наука в его время была еще на таком низком уровне, что дальше этих предположений он пойти не смог.
Появление микроскопа
Наиболее уязвимым местом в теории кровообращения Гарвея было то обстоятельство, что ему так и не удалось обнаружить связи между артериями и венами. Он лишь предположил, что подобное соединение существует, но вследствие малых размеров соединяющих сосудов не видно глазу. К концу жизни Гарвея вопрос все еще оставался нерешенным, и так могло бы продолжаться вечно, если бы человечество полагалось только на невооруженный глаз.