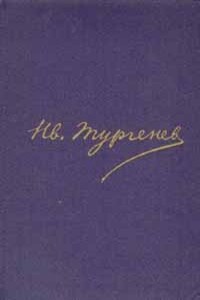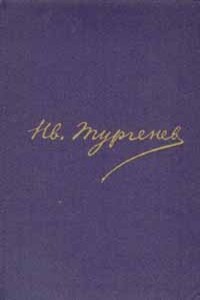Том 8. Повести и рассказы 1868-1872 | страница 12
— А вы поете? — спросил Кузьма Васильевич, кладя себе в рот ложку действительно превосходного шербету.
— О да! — Она откинула назад свою косу, наклонила голову набок и взяла несколько аккордов, старательно глядя на концы своих пальцев и на ручку гитары… потом вдруг запела не по росту сильным и приятным, но гортанным и для уха Кузьмы Васильевича несколько диким голосом. «Ах ты, моя кошечка!» — подумал он. Пела она песню заунывную, нисколько не русскую и на языке, совершенно Кузьме Васильевичу не знакомом. По его уверению, звуки: «кха, гха» — то и дело слышались в пении, а под конец она протяжно повторила: «синтамар» или «синцимар», что-то в этом вкусе, подперлась рукой, вздохнула и опустила гитару на колени. — Хорошо? — спросила она. — Еще хотите?
— С моим удовольствием, — отвечал Кузьма Васильевич. — Только зачем это у вас такое лицо, словно всё печальное? Вы бы шербету откушали.
— Нет… вы сами. А я еще… Эта будет веселей. — Она спела другую песенку, вроде плясовой, на том же непонятном языке. Опять послышались Кузьме Васильевичу прежние гортанные звуки. Ее смуглые пальчики так и бегали по струнам, «как паучки». И кончила она этот раз тем, что бойко крикнула: «Ганда!» или «Гасса!» — и застучала кулачком по столу, сверкая глазами…
Кузьма Васильевич сидел как отуманенный. Голова у него кружилась. Так это всё было неожиданно… Да и запах этот, пение… свечи днем… шербет с ванилью… А тут Колибри всё ближе к нему подвигается, волосы ее блестят и шуршат, и пышет от нее жаром, и это печальное лицо… «Русалка!» — подумал Кузьма Васильевич. Неловко ему что-то становилось.
— Душечка моя, — промолвил он, — признайтесь, что́ вам вздумалось меня сегодня к себе позвать?
— Вы моло́дой, хорошенький… Я та́ких люблю.
— А, вот что! Но что скажет Эмилия? Она мне письмо написала: она должна сейчас прийти.
— Вы не говорите ей… ничего! Беда! Убьет!
Кузьма Васильевич засмеялся.
— Будто она такая злая?
Колибри несколько раз с важностью качнула головой.
— И мадам Фритче тоже ничего. Ни! ни! ни! — Она тихонько постучала себе по лбу. — Понимаешь, офицер?
Кузьма Васильевич нахмурил брови.
— Тайна, значит?
— Да… да.
— Ну, пожалуй… словечка не пророню. Только за это ты поцеловать меня должна.
— Нет, после… когда уйдешь.
— Вот еще что выдумала! — Кузьма Васильевич нагнулся было к ней, но она медленно отклонилась и выпрямилась, как уж, на которого набрели в лесной траве. Кузьма Васильевич уставился на нее. — Вишь ты, — промолвил он наконец, — злюка какая! Ну, господь с тобою!