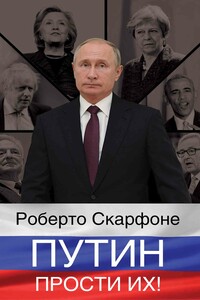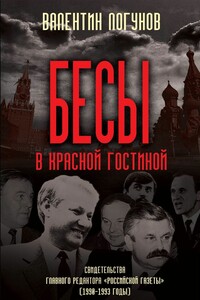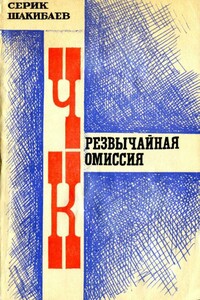Карательная медицина | страница 48
Вопрос о стадии следствия, на которой допускается к делу защитник, один из самых серьезных в советской уголовно-процессуальной системе. Вся эта система устроена таким образом, чтобы защита как можно меньше могла влиять на ход процесса. В обычном уголовном судопроизводстве защитник допускается к участию в деле с момента объявления обвиняемому об окончании предварительного следствия и предъявления обвиняемому для ознакомления всего производства по делу[60] (исключение составляют дела о преступлениях немых, глухих, слепых и несовершеннолетних, в этих случаях защитник допускается к делу с момента предъявления обвинения).
Для примера интересно сравнить 47 статью УПК РСФСР и 116 статью УПК Франции.
Статья 116 УПК Франции.
Задержанный обвиняемый вправе после первой явки свободно общаться со своим защитником[61] .
Заканчивая тему о правах обвиняемых, следует сказать еще об одной особенности советской судебно-следственной системы. Вся 33 глава УПК РСФСР регулирует ход предварительного следствия по делам невменяемых[62]. Статьи этой главы предоставляют невменяемым права, лишают их прав, делают какие-то исключения. При этом как бы забывается, что невменяемость — это предпосылка невиновности и по теории советского права может быть установлена только судом.
11.
Сравнивая судебную психиатрию СССР и демократических стран Запада, нельзя не отметить такой огромный недостаток советской судебной системы, как отсутствие состязательной экспертизы. При состязательной экспертизе в противоборстве экспертов защиты и экспертов обвинения истина выявляется, безусловно, более строго, чем при судебно-психиатрической экспертизе по советскому варианту. По ассоциации с состязательной экспертизой советскую экспертизу можно назвать «угнетательной», ибо фактически в СССР существует только экспертиза обвинения, тесно связанная с органами власти и подчиняющаяся их указаниям (во всяком случае.в производстве по делам карательной медицины). Советская юстиция так аргументирует свою позицию: «В советском праве отвергается состязательная экспертиза, имеющая место в ряде буржуазных стран. У нас нет деления на экспертов обвинения и экспертов защиты. В своих суждениях эксперт независим от следственных органов, что является лучшей гарантией объективности его выводов. Судебно-психиатрическая экспертиза в СССР находится в ведении органов здравоохранения»[63].
Утверждения о том, что эксперт независим от следственных органов, а судебно-психиатрическая экспертиза находится в ведении органов здравоохранения, оставим на совести профессора Я.М. Калашника, автора цитируемых выше строк. Приезжая к себе на работу в Центральный научно-исследовательский институт судебной психиатрии имени профессора Сербского, Я.М. Калашник мог бы заметить в воротах института постоянных солдат и офицеров в форме внутренних войск. Автор этой книги однажды пытался проникнуть на территорию Института им. Сербского под невинным предлогом поиска работы. Надо сказать, что институт огорожен внушительной стеной и единственный зримый вход в него — через проходную, охраняемую военными. Сотрудники института деловито шмыгали туда и обратно, на ходу предъявляя вахтерам свои удостоверения. У меня не оказалось заветной книжечки, и я был остановлен младшим лейтенантом и двумя сержантами охраны — все в форме ГБ. После тщательной проверки документов и недолгих препирательств мне было велено искать работу в другом месте или вообще убираться ко всем чертям, что я и сделал незамедлительно, почувствовав, в отличие от профессора Калашника, что эти люди — не мои коллеги-медики.