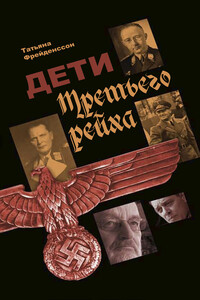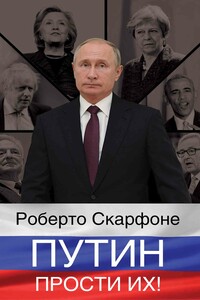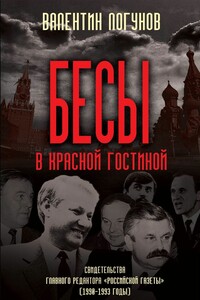Карательная медицина | страница 35
Но 70 статья УК предусматривает обязательное наличие в деянии цели подрыва или ослабления советской власти. Но если наш инакомыслящий не отдавал себе отчета в своих действиях, то, значит, эти действия не имели какой-либо цели, т. е. его пропаганда была бесцельна. А если у него не было цели подрыва или ослабления советской власти, то его деяние не подпадает под действие 70 статьи!
Если же у него была цель подрыва или ослабления советской власти, то, значит, он руководствовался ею в своей пропаганде и агитации, следовательно, не может быть признан невменяемым!
Если же у него была цель подрыва или ослабления советской власти, но вместо соответствующей агитации или пропаганды он занимался чем-то совсем иным (есть цель, но нет отчета в совершаемых действиях!), то в этих действиях нет состава преступления, предусмотренного 70 статьей!
Таким образом, лицо, обвиняемое в совершении деяния, предусмотренного 70 статьей УК РСФСР, нельзя признать невменяемым, так как деяние это подпадает под действие закона только в том случае, если совершено умышленно, т. е. вменяемо. Антисоветская агитация или пропаганда, с точки зрения 70 статьи, несовместимы с невменяемостью.
Аналогичная ситуация сложилась с 64 статьей (о которой у нас уже шла речь) и статьей 190-1 УК РСФСР (речь о которой будет впереди): общественно опасные деяния подпадают под действие этих статей только в том случае, если носят умышленный характер.
4.
В разделе Уголовного кодекса «Особо опасные государственные преступления» есть еще две статьи, по которым, как нам известно, применялись меры карательной медицины — 66 статья УК РСФСР (террористический акт) и 68 статья (диверсия).
Мы не оспариваем правомерность преследований за эти деликты, хотя и весьма сомневаемся в исторической целесообразности и моральной оправданности тяжести наказания: по обеим статьям высшая мера — смертная казнь. Мы не будем разбирать эти статьи с точки зрения современного права, а только констатируем факт применения в этих случаях мер карательной медицины. С позиции подсудимых, может, и лучше быть признанным невменяемым, чем получить до 15 лет лишения свободы, а тем более смертную казнь. Но карательная медицина бесчеловечна и антизаконна и в любом случае вызывает наш протест, даже если подсудимый в конечном счете от нее выигрывает. Юридическая истина должна быть дороже идеологических установок. Исторический опыт России в достаточной мере показывает, во что превращается юстиция, когда руководствуются не справедливостью, а идеологией. Здоровые люди должны уметь отвечать за свои поступки, особенно в политических делах. Кроме того, подобные случаи создают опасный прецедент — освобождение от ответственности путем использования карательной медицины. Карательной она остается и в этом случае, хотя правонарушители часто пытались симулироватъ или агравировать психическую болезнь, если это могло облегчить их участь.