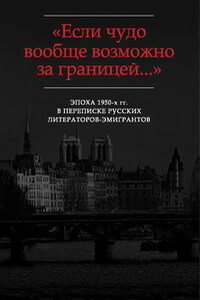Драма и действие. Лекции по теории драмы | страница 95
Шиллер вовсе не становится при этом апологетом зла. Тут необычайно интересны и ход его мыслей, и выводы из них. Поскольку, рассуждает Шиллер, трагедия имеет целью изображать «людей в состоянии страдания», ее героями должны быть только люди, способные мощно страдать. «Чистые воплощения нравственности» к этому не способны. Тут Шиллер весьма близок к Лессингу. Подобно ему Шиллер считает, что героями трагедии могут быть только «люди в полном смысле этого слова», то есть «характеры смешанные», далекие от совершенства[123]. Но затем Шиллер заходит в этом вопросе гораздо далее Лессинга, признавая право трагического поэта брать себе в герои не только «смешанный», но и преступный характер. Пусть будут пороки, но свидетельствующие о силе характера. Изображению добродетели, в которой дает себя знать не свобода человеческого духа, а духовная инерция, Шиллер безоговорочно предпочитает изображение пороков, в которых проявляется свободная самодеятельность субъекта.
Ведь поэзия, считает Шиллер, воздействует на человека не советами, не картинами примерного человеческого поведения. Ее влияние тем сильнее, чем более она побуждает нас осознавать возможности, таящиеся в человеческой личности. Как можно объяснить то, что с отвращением отворачиваясь от «сносного» персонажа, мы с жутким восхищением следим за насквозь порочным? — спрашивает Шиллер и отвечает: в первом мы отчаялись найти даже малейшее проявление свободной воли, «тогда как в каждом движении второго мы замечаем, что одним-единственным волевым актом он способен возвыситься до высшей степени человеческого достоинства»[124].
Лессинг, как мы помним, касался этой же проблемы, когда стремился объяснить, почему мы одновременно желаем, чтобы Ричард достиг и не достиг своей цели. Сложность нашей реакции Лессинг стремился связать с особой природой действий героя, с присущей этим действиям целесообразностью. Шиллер аналогичную ситуацию объясняет по-другому: нас привлекает в таких действиях проявление духовно-деятельного, свободного начала, противостоящего началу материально-природному, подчиненному законам причинности и необходимости.
Поскольку для Шиллера значительны моменты, когда герой втянут в патетическую борьбу стремлений и влечений, он, думается, не случайно наряду с понятием «действие» употребляет и другое — «действенное состояние». Пафос Шиллер и трактует как такое сложное действенное состояние героя, когда тот мощно сопротивляется полному грузу страдания, на него взваленному.