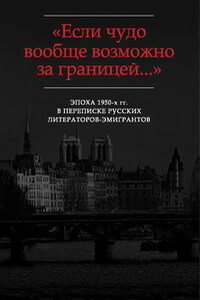Драма и действие. Лекции по теории драмы | страница 93
К тому же, в отличие от Шиллера, мы видим в природной и общественной необходимости не только силы, противостоящие человеку, но в еще большей мере и его союзников. Ведь самая общественная необходимость есть во многом результат предыдущих человеческих усилий. Она и сковывает человеческую активность, и стимулирует ее. Необходимость поэтому — не только полярна свободе. Она же является и ее почвой. «Моральная независимость» субъекта, столь важная для Шиллера, в полной мере может проявить себя, как мы знаем, лишь на основе свободы социальной и политической. Да и сам автор «Разбойников», «Коварства и любви», «Валленштейна», переходя от теории к художеству, обнаруживал, насколько тесно связаны между собой сферы моральная и социально-политическая. Однако не будем преуменьшать глубокое содержание мысли Шиллера о праве и обязанности человека становиться личностью, дабы светить собственным светом, а не только отражать лучи чужого, хотя и божественного разума, как это казалось необходимым Гегелю.
Понимая под действием акт, посредством которого человек становится тем, чем он может и должен стать, и ставя этот акт столь высоко, Шиллер тут уже во многом отходит и от Канта, для которого большее значение, чем сама акция, имели побуждения к ней.
Для Шиллера (и тут его полным единомышленником был Гёте) «воление» — один из главных элементов в структуре драматического поступка. Подчеркнем: в кантовском смысле «воление» — не изъявление и не осуществление воли, а сложный комплекс стремлений и переживаний, скорее отвращающих от совершения поступка, чем побуждающих к этому. Шиллер же, принимая кантовское «воление», и как философ и как драматург не может им ограничиться. Какой бы сложностью ни отличалось «воление», в драме оно должно принять форму поступка — так считал Шиллер (и в этом Гёте тоже был его единомышленником)[120].
Шиллер — и это очень важно — расширительно понимает действие, отнюдь не сводя его к плоско понимаемой акции, направленной со стороны одного субъекта на другого, то есть к тому, что у нас нередко именуется «внешним действием» в отличие от «внутреннего». Само такое противопоставление несостоятельно. Оно основано на предположении, будто в жизни, а тем более драме, вообще может иметь место какое бы то ни было действие, не выраженное так или иначе объективно, остающееся полностью скрытым, никак не проявленным для какого-либо лица или зрителя.
Насколько Шиллер расширяет понятие действия, становится особенно ясным из его трактовки патетического. Поэта волнует вопрос о сущности страдания, испытываемого драматическим, в особенности трагическим героем, и о природе переживаемых при этом зрителем сострадания и сопряженного с ним наслаждения. Эти темы являются «сквозными» в ряде шиллеровских статей