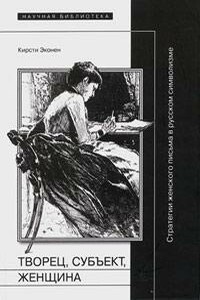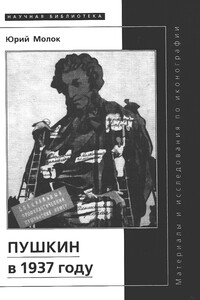Драма и действие. Лекции по теории драмы | страница 57
Размышляя о своеобразных задачах драматической сцены, Лессинг делает при этом весьма важное обобщение: «Все стоическое не сценично, и наше сострадание всегда соразмерно тому страданию, какое испытывает интересующий нас человек»[66]. Сценичность тут, разумеется, для Лессинга — синоним высокого драматизма. Герой, переносящий свои страдания «возвышенно», вызывает в нас «удивление». Но «удивление есть чувство холодное, бездейственно созерцательное». И не для того, чтобы испытывать такого рода чувства, а ради более теплых, живых активных переживаний ходим мы на драматический спектакль.
К этой же теме возвращается Лессинг в «Гамбургской драматургии», где он еще более настойчиво излагает свои представления о подлинно «сценичном» герое драмы. Ей не нужен герой, обнаруживающий «тихую покорность и безмятежную кротость». Ни стоически бесчувственный, ни безмятежно покорный, ни морально совершенный идеальные герои не «сценичны», то есть неспособны на захватывающее зрителя подлинно драматическое действие.
Подобающий ей драматизм могут внести на сцену не «мученики» и не «гнусные чудовища», «вместилища порока», а деятельно-страстные герои.
Стремясь отчетливо определить специфические задачи драмы, Лессинг на одной из страниц «Гамбургской драматургии» прибегает к тому же ходу, которому он следовал на протяжении всего «Лаокоона». Там он выявлял границы между разными родами искусства. Здесь речь идет уже о границе между двумя видами «поэзии»: драмой и басней. Поэт-баснописец хочет научить нас, он стремится преподать нам некое поучение и обращается лишь к нашему уму. Драматический поэт прежде всего стремится нас заинтересовать: «драма не заявляет притязания на особое… поучение, которое вытекало бы из ее фабулы». К уму драма обращается через сердце. Она либо возбуждает наши страсти изображением «превратностей судеб» человеческих, либо вызывает наслаждение наше «верным и живым изображением нравов и характеров»[67]. Тут у Лессинга весьма важное не то «добавление» к Аристотелю, не то отступление от него.
Автор «Гамбургской драматургии» хотел бы предстать всего лишь истолкователем подлинного смысла «Поэтики» в отличие от других истолкователей, либо не понявших, либо извративших ее смысл, но на деле это, разумеется, не так. Когда Лессинг говорит об изображении «превратностей судеб», он весьма близок Аристотелю. Но тот никогда не ставил перед драмой задачу «верного и живого изображения нравов и характеров». Тут Лессинг уже исходит из опыта драмы нового времени. Но хотя Лессинг здесь говорит всего лишь о «верных и живых» изображениях характеров, по существу, он от драмы ожидает раскрытия характеров через действия, совершаемые в особых ситуациях, выявляющих «превратности», переломы в человеческих судьбах.