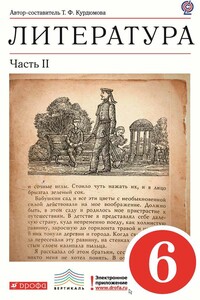Драма и действие. Лекции по теории драмы | страница 45
По сложившейся традиции, говоря о «Царе Эдипе», почему-то имеют в виду только главного героя и только его судьбу. Между тем трагедия Софокла представляет собой сложное структурное целое. Поле художественного напряжения образуется тут взаимными притяжениями и отталкиваниями персонажей. Лай, Иокаста, пастухи, Эдип — эти столь разные герои оказываются в сходных ситуациях и перед сходными проблемами.
Посмотрим на Лая и Иокасту. Они первыми позволили себе проявить своеволие, они первыми из действующих лиц трагедии пошли против воли богов. Вместо того чтобы ждать гибели от рук собственного сына, Лай через Иокасту передал младенца пастуху, повелев забросить его на недоступную скалу. Тем самым супруги полагают, будто они обрекли младенца на верную смерть.
Затем проявляет свою волю пастух, не выполнивший приказа Лая. Пожалев ребенка, он отдает его другому пастуху «в край далекий». Вторым спасителем Эдипа стал этот корнифский пастух, развязавший его проколотые ноги и передавший его в дом царя Полиба. Наконец, и сам Эдип тоже поступает, руководствуясь собственным решением: бежит из дома Полиба, дабы не стать, согласно пророчествам, убийцей отца и мужем родной матери.
Как оказывается впоследствии, в итоге все происходит вопреки намерениям Лая, Иокасты, обоих пастухов, Эдипа. Каждый из них проявляет свой характер, но становится при этом жертвой совершенной им «ошибки». Однако мотивы, а значит, и смысл «ошибок» при этом различны. Лай печется о себе, о самосохранении. Ни отцовских, ни человеческих чувств по отношению к собственному сыну он не проявляет. В отличие от Лая оба пастуха, не выполняющие приказания царя, движимы именно гуманными соображениями. Наконец, Эдип, стремясь избегнуть исполнения предсказаний, действует, побуждаемый сложными стремлениями. Он думает и о себе, и о родителях, не желая стать убийцей одного и вступать в кровосмесительную связь с другой.
Ошибки каждого из них нельзя считать в равной мере «великими», хотя их поступками двигала свободная воля, а не просто своеволие. Лай, стремясь избегнуть лично им никак не заслуженной жестокости, пытается спасти себя жестокостью же. Тут, в этой преднамеренной жестокости, «великой» ошибки вовсе нет. Поэтому для Софокла Лай, несмотря на проявленную им личную инициативу, на совершенный им вызов богам, то есть существующему миропорядку, не становится героем трагическим. Софокл не считает нужным показать нам Лая, не вызывает к нему ни капли сочувствия. Лай умирает, не пройдя ни через перипетию, ни через узнавание-страдание.