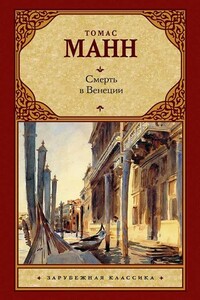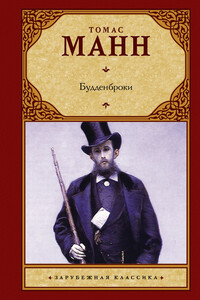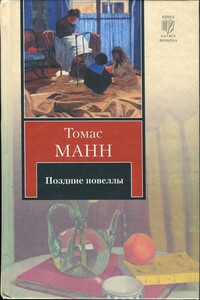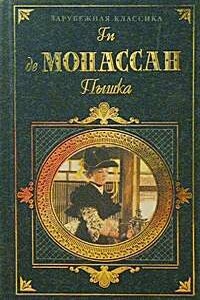Обманутая | страница 25
— Бедная моя мамочка! Как ты страдаешь, как мучаешься! Мне больно за тебя. Но нет, мне кажется, нет! Правда, я мало знаю его образ жизни и не испытываю потребности вникать в него, но я не думаю. Во всяком случае, мне не приходилось слышать о подобных отношениях между ним и госпожой Фингстен или госпожой Лютценкирхен.
— Надеюсь, моя добрая девочка, ты говоришь это не в утешение мне, не с тем, чтобы приложить бальзам к моим ранам, не из сожаления. Жалость, — хотя, быть может, я и ищу ее у тебя, — здесь неуместна… В стыде и в муках — мое счастье. Я горда ущербной весной своей души, и если тебе показалось, что я молю о жалости, то это не так.
— Нет, мама, мне не кажется, что ты молишь о жалости. Но в подобных случаях гордость и счастье тесно сплетаются со страданием. Они нерасторжимы. И если даже ты не ищешь жалости и сострадания, — все равно ты вызываешь их у тех, кто тебя любит, кто хочет, чтобы ты сама себя пожалела и освободилась от этого наваждения… Прости меня за резкость, но я не забочусь о словах, я забочусь о тебе, родная, и не только после твоего признания, за которое я тебе так благодарна, не только с сегодняшнего дня. Ты с большим самообладанием скрывала свою тайну, но что она — столь необычная и странная — существует и уже несколько месяцев терзает тебя, это не осталось незамеченным для тех, кто тебя любит, кто в полной растерянности наблюдал за тобой…
— Кого ты подразумеваешь, говоря о тех, кто меня любит?
— Я говорю о себе. За последнее время ты очень переменилась, мама! То есть не переменилась — это не то слово, — ведь ты осталась все той же, и, говоря «переменилась», я имею в виду не твой внешний облик, его омоложение, но и это не то слово: ты, разумеется, не могла на самом деле так уж помолодеть. Но по временам, минутами, моему взору чудилось некое фантасмагорическое видение, словно в твоем милом, почтенном образе внезапно вырисовались черты той мамы, которую я знала, когда была подростком, — нет, больше того — подчас мне казалось, что я вижу тебя такой, какой никогда не видела. Так, вероятно, ты должна была выглядеть, когда была молодой девушкой. И этот обман зрения, если это обман зрения, — но нет, это не обман! — казалось, должен был меня только радовать, веселить мое сердце, ведь правда? Но мне не было весело, напротив, — мне тяжело становилось на сердце. И именно в те мгновения, когда ты молодела на моих глазах, мне было особенно жаль тебя! Потому что одновременно с этим я видела, что ты страдаешь, видела, что фантасмагория, о которой я упомянула, не просто связана с твоим страданием, а является его выражением, зримым выражением того, что ты называешь своей ущербной весной. Милая мама, откуда у тебя такие слова? Они несвойственны тебе. Ты — скромная, душевная женщина, заслуживающая всяческого восхищения. Твои глаза ясно и зорко смотрят на природу, на жизнь, но не в книги. Ты никогда много не читала, и прежде ты не пользовалась такими словами, выдуманными поэтами, такими горькими, больными словами, и когда теперь ты их все же произносишь, это доказывает…