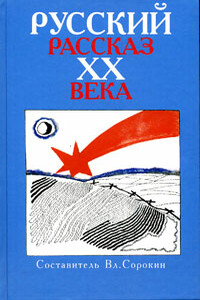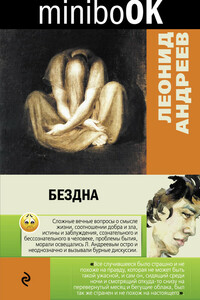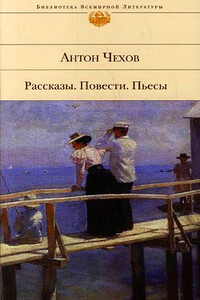Том 3. Повести, рассказы и пьесы 1908-1910 | страница 87
Теперь я понимаю, что, как бы ни велика была ее скорбь, одной ее было бы недостаточно для смерти, истинной причиной которой был преклонный возраст моей матушки и целый ряд болезней, естественно расшатавших ее когда-то крепкий и стойкий организм. Во имя справедливости я должен сказать, что мой покойный отец, человек весьма слабохарактерный, далеко не был примерным мужем и семьянином и многочисленными изменами, ложью и обманом доводил мою матушку до отчаяния, непрестанно оскорбляя ее гордость и строгую, неподкупную правдивость. Но тогда я не понимал этого, смерть матери показалась мне одним из жесточайших проявлений мировой несправедливости и вызвала новый поток бесцельных и кощунственных проклятий.
Не знаю, должен ли я утомлять внимание читателя рассказом о других событиях однородного свойства. Упомяну коротко, что меня один за другим перестали посещать мои друзья, оставшиеся у меня от того времени, когда я был счастлив и свободен. По их словам, они верили в мою невиновность и первое время горячо выражали мне свое сочувствие. Но наши жизни, моя в тюрьме и их на свободе, были столь различны, что постепенно, под давлением совершенно естественных причин: забывчивости, служебных и иных обязанностей, отсутствию общих интересов, они стали являться на свидания все реже и реже и под конец исчезли совсем. Не могу без улыбки вспомнить: даже смерть матери, даже измена любимой девушки не вызвали во мне такого безнадежно-горького чувства, какое удалось исторгнуть из души моей этим господам, имена которых теперь я и сам плохо помню.
«Какой ужас, какая боль!.. Друзья мои, вы оставили меня одного! Друзья мои, вы понимаете, что вы сделали: вы оставили меня одного? Разве мыслимо оставлять человека одного? Даже у змеи есть товарищ, даже у паука есть подруга, — а человека вы оставили одного. Дали ему душу — и оставили одного; дали сердце, разум, дали руку для пожатия, уста для поцелуя — и оставили одного! Что же делать человеку, когда его оставили одного?» — так восклицал я в «Дневнике заключенного», терзаясь горестными недоумениями. В юношеском ослеплении своем, в боли молодого, неразумного сердца я все еще не хотел понять, что одиночество, на которое я так горько жалуюсь, подобно разуму, есть преимущество, данное человеку перед другими тварями, дабы оградить от чуждого взора святые тайны его души.[8]
И, называя друзей моих «вероломными изменниками, предателями», не мог я, несчастный юноша, понять того мудрого закона жизни, по которому не вечны ни дружба, ни любовь, ни даже нежнейшая привязанность сестры и матери. Обманутый ложью поэтов, провозгласивших вечную дружбу и любовь, я не хотел видеть того, что каждодневно наблюдает из окон своего жилища мой благосклонный читатель: как друзья, родные, мать и жена, в видимом отчаянии и слезах, провожают на кладбище дорогого покойника и по истечении времени