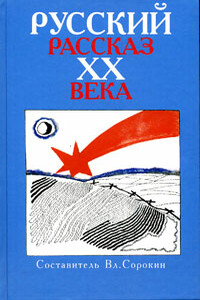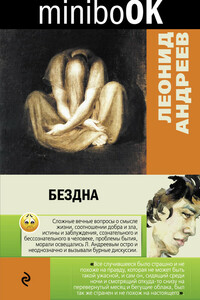Том 3. Повести, рассказы и пьесы 1908-1910 | страница 113
— Простите меня, дедушка, я говорю глупости, конечно, но я так несчастен и так одинок. Конечно, милый дедушка, все это правда об искре Божией и обо всей этой красоте, но ведь и начищенный сапог красив! Я не могу, я не могу. Вы подумайте, разве может человек иметь такие усы, как у него[57]. А он еще жалуется: левый ус короче!
Он по-детстки засмеялся и, вздохнув, добавил:
— Попробую еще. Буду рисовать эту даму. Действительно в ней есть что-то хорошее. Хотя все-таки она — корова.
Он опять засмеялся и осторожно, боясь смахнуть рукавом непрочный рисунок, отнес грифельную доску в угол. И здесь я совершил то, к чему обязывал меня мой долг: схватив доску, сильным ударом я раздробил ее на куски. Я думал, что художник с яростью бросится на меня, но этого не произошло: его слабому мозгу мой поступок показался таким кощунственным, таким сверхъестественно ужасным, что ни сл?ва не могли произнести его помертвевшие губы.
— Что вы сделали? — наконец спросил он тихо. — Вы ее разбили?
И, подняв руку, я торжественно ответил:
— Я сделал то, безумный юноша, что совершил бы я над сердцем моим, если бы оно вздумало шутить и смеяться надо мною! Несчастный, разве ты не видишь, что твое искусство уже давно смеется над тобою, что с твоей доски сам дьявол корчит тебе свои гнусные рожи!
— Да! Дьявол!
— Далекий твоему дивному искусству, я первоначально не понял тебя, твоей тоски — твоего ужаса бесцельности. Но когда сегодня, войдя, я увидел тебя за этим гибельным занятием, я сказал себе: пусть лучше он не творит совсем, чем творит так. Послушай меня.
Здесь впервые я открыл этому юноше священную формулу железной решетки, которая, разделяя бесконечное на квадраты, тем самым подчиняет его нам. С трепетом внимал г. К. моим речам, с ужасом невежды глядя на те знаки, которые ему, несомненно, казались кабалистическими и которые были лишь обычными знаками, употребляемыми в математике.
— Я ваш раб, дедушка, — сказал он под конец, целуя холодными губами мою руку.
— Нет, ты будешь моим любимым учеником, сын мой. Благословляю тебя.
И показалось мне, художник был спасен. Правда, ко мне относился он с большою холодостью, легко объясняемой, впрочем, тем чрезмерным уважением, какое внушил я ему, но портрет г-жи начальницы писал с таким жаром, с таким усердием, что почтенная дама была искренно тронута. И странно: в черты этой уже немолодой и несколько полной женщины художнику удалось вложить столько странной красоты, что даже г. начальник, уже давно привыкший к лицу своей супруги, был искренно восхищен его новым и невиданным выражением. Таким образом, все шло, казалось, прекрасно, как вдруг эта новая катастрофа, весь ужас которой знаю я