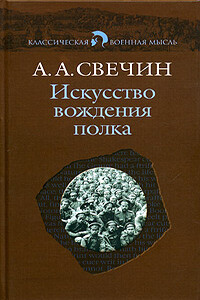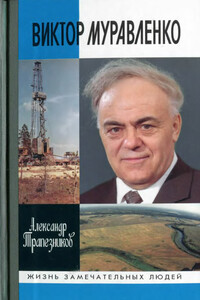Клаузевиц | страница 95
Таковы замечания Клаузевица в его воспоминаниях. Письма к Марии и Гнейзенау, точно отражающие ощущения Клаузевица в отдельные моменты событий, позволяют утверждать, что и у самого Клаузевица в течение отступления полной ясности в понимании изменения стратегической обстановки в пользу русских еще не было. Из Дорогобужа он писал, что положение пока не плохо, но предстоит сражение и, в случае отрицательного его исхода, положение может измениться значительно к худшему. Однако, сомнения могут быть только в результате одного сражения, но не всей войны, если только решение бороться у русских не ослабеет. Сразу же после оставления Москвы Клаузевиц определял положение русской армии, как вполне удовлетворительное. Принудить Россию к миру невозможно.
Однако, самому Клаузевицу приходилось тяжело: девять недель маршей, из них в течение пяти недель недоедание и сон исключительно под открытым небом. Один день он мучился прострелом. Зубы болели беспрерывно, волосы начали лезть, пропали последние перчатки, руки огрубели. Не зная языка, устаешь в три раза больше, становишься печальным, так как, будучи не в курсе дела, утрачиваешь интерес к нему. «Одна надежда на то, что Гнейзенау вытащит меня из дыры, в которую я попал… Но о Гнейзенау нет никаких вестей». В начале ноября Клаузевиц в письме к Гнейзенау признает, что русским удалось «распять» французскую армию. Но и здесь у Клаузевица еще звучат скептические ноты, основанные на недооценке русских и переоценке Наполеона: «не следует ожидать слишком многого от нас и слишком малого от нашего противника. Конечно, можно без всяких преувеличений думать о полном истреблении французской армии, но я не рассчитываю на него… Император Наполеон, как великий полководец, по-видимому, может всей силой принуждения, свойственной его энергии и силе воли, кое-как сберечь аппарат». Возможно, что Наполеону удастся собрать для занятия рубежа Вислы армию в 155 тысяч человек. Таким образом, пессимистические нотки сохраняются у Клаузевица почти вплоть до березинской катастрофы.
Русские офицеры всегда были очень любезны с Клаузевицем — он не может пожаловаться ни на один случай грубости. Это объясняется сдержанностью Клаузевица. После отступления из Москвы Клаузевиц и его товарищи-немцы должны были скрывать даже свои не слишком яркие надежды на скорый успех, чтобы не оскорбить траурного чувства русских: «нам со стороны было виднее, ведь у нас не было, как у русских, непосредственной боли, мы были чужими по отношению к этому страдающему и угрожаемому в самых основах отечеству. А это влияет на силу суждения. Мы дрожали только перед мыслью о мире. Мы смотрели на трудности момента, как на решительное средство к спасению. Но если бы мы стали громко об этом говорить, мы возбудили бы только подозрения». Из «дыры» вытащил Клаузевица не Гнейзенау, а Александр I, вспомнивший о нем и назначивший его начальником штаба корпуса Эссена в Ригу, вместо убитого в августе Тидемана. После оставления Москвы Клаузевиц узнал, что бумага с его назначением в течение месяца залежалась в главной квартире, внимание которой было поглощено крупными событиями.