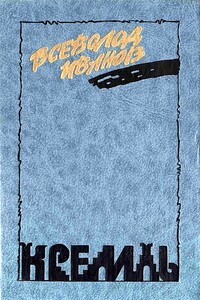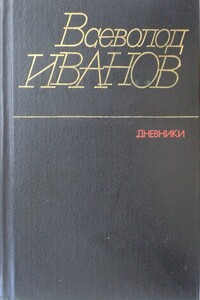Голубые пески | страница 5
И Кирилл Михеич слушает. Раз пришел...
На бывшей исправничьей лошади - говорящий. Звали ее в 1905 году Микадо, а как заключили мир с Японией - неудобно - стали кликать: Кадо. Теперь прозвали Императором. Лошадь добрая, Микадо так Микадо, Император так Император - ржет. Копытца у ней тоненькие, как у барышни, головка литая и зуб в тугой губе - крепкая...
И вот на бывшей исправничьей лошади - говорящий. Волос у него под золото, волной растрепанный на шапочку. А шапочка-пирожок - без козырька и наверху - алый каемчатый разрубец. На боку, как у казаков, - шашка в чеканном серебре.
Спросил кого-то Кирилл Михеич:
- Запус?
- Он...
Опять Кирилл Михеич:
- На какой, то-есть, предмет представляет себя?
И кто-то басом с кирпичей ухнул:
- Не мешай... Потом возразишь.
Стал ждать Кирилл Михеич, когда ему возразить можно.
Слова у Запуса были розовые, крепкие, как просмоленные веревки, и теплые. От слов потели и дымились ситцевые рубахи, ветер над головами шел едкий и медленный.
И Кириллу Михеичу почти также показалось, хотя и не понимал слов, не понимал звонких губ человека в зеленом киргизском седле.
- Товарищи!.. Требуйте отмены предательских договоров!.. Требуйте смены замаскированного слуги капиталистов - правительства Керенского!.. Берите власть в свои мозолистые руки!.. Долой войну... Берите власть...
И он, взметывая головой, точно вбивал подбородком - в чьи руки должна перейти власть. А потом корявые, исщемленные кислотами и землей, поднялись кверху руки - за властью...
Кирилл Михеич оглянулся. Кроме него, на постройке не было ни одного человека в сюртуке. Он снял шляпу, разгладил мокрый волос, вытер платком твердую кочковатую ладонь и одним глазом повел на Запуса.
Гришка Заботин, наборщик из типографии, держась синими пальцами за серебряные ножны, говорил что-то Запусу. И выпачканный краской, темный, как типографская литера, гришкин рот глядел на Кирилла Михеича. И Запус туда же.
Кирилл Михеич сунул платок в карман и, проговорив:
- Стрекулисты... тоже... Политики! отправился домой.
Но тут-то и стряслось.
За Казачьей площадью, где строится церковь, есть такой переулочек Непроезжий. Грязь в нем бывает в дождь желтая и тягучая, как мед, и глубин неизведанных. Того ради, не как в городе - проложен переулком тем деревянный мосток, по прозванью троттуар.
Публика бунтующая на площади галдит. По улицам ополченцы идут, распускательные марсельезные песни поют. А здесь спокойнехонько по дощечкам каблуками "скороходовских" ботинок отстукивай. Хоть тебе и жена изменяет, хоть и архитектор-англичанин надуть хочет - постукивай знай.