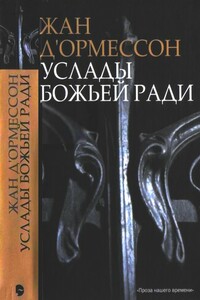Сговор | страница 27
Скосов вернулся на просторную кухню. Теперь он остался один, вновь примостился у печки и долго еще курил, роняя красные искры на рукав теплой фланелевой рубашки. А печь жадно глотала дым. И в одно мгновение Скосову вдруг стало страшно смотреть в ее пустой черный объем, словно топка была лазом в преисподнюю. Скосов сначала судорожно отстранился, а потом и усмехнулся своей слабости.
В тот день, когда он вернулся с покоса и сжег в этой печке свои фотографии, жена его к вечеру собрала стол, на котором не вместились все готовые яства, и пришлось составить на пол телевизор, новый «Панасоник» в черном панцире, чтобы использовать как приставку к столу тумбочку из–под него. И пришли званые гости, две пары супругов средних лет, из числа подающих большие надежды обывателей: два с виду разных мужика — невысокий, толстенький, и высокий, жилистый, сильный, и две бабенки при них, тоже разные обличьем — разные и в то же время одинаковые, имеющие нечто родственное в глазах, в лицах, в манерах, в разговорах. И братская общность их, наверное, заключалась в том, что люди называют житейской мудростью, скрывающей умение крепко держаться за свой кусок, да и за чужой, если он подвернется под руку. Так рассуждал про себя Скосов.
Но сначала все шло доброжелательно, чинно, пристойно, было произнесено множество тостов «за копытца». И Скосов внешне был благодушно–улыбчивым, с поднятым фужером водки он философствовал о смене поколений, о патриархальности и семье, а потом тяжело напился и замолчал, уставившись в мутное, скрытое от посторонних видение белыми тупыми глазами. И окружающие могли заметить на кончике его сизого носа блестящую каплю, которая начинала меленько дрожать и едва не обрывалась при каждом горячем выдохе.
Но сам Скосов не замечал и не чувствовал себя. Из всего вечера он и запомнил только зев печки, перед которой теперь, спустя трое суток, он прилег и курил. В тот вечер он, наверное, также привычно курил у нее и смотрел, как печь засасывает дым. И тяга становилась все сильнее и сильнее. И наконец Скосову показалось, что сейчас в эту черную пасть втянет и его — втянет и высосет из него кровь, черные чугунные губы уже, кажется, обхватили ему голову, и тогда он от ужаса зажмурился. Он так и уснул в своей белоснежной старомодной сорочке из нейлона на полу, и пьяные гости, оравшие песни, не тревожили хозяина дома, зная его буйный норов. Если кому–то нужно было выйти, через него переступали, как через хрупкий предмет.