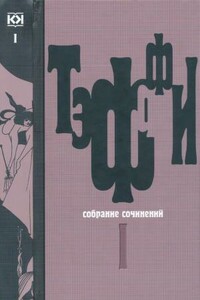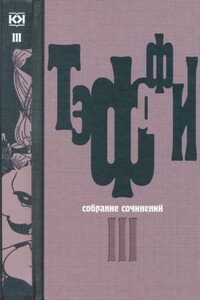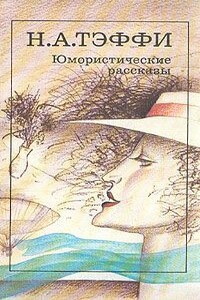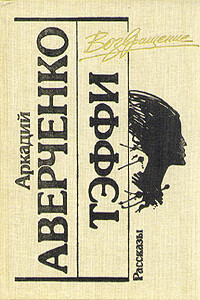Том 4. Книга Июнь. О нежности | страница 40
Напряженно улыбаясь, проходила она мимо швейцара. Она ждет друзей из Берлина, чтобы вместе ехать дальше.
Вокзальный сторож, парень с выбитым зубом, уже узнавал ее и кивал головой. Она пряталась от него, так как он входил каким-то слагаемым в этот вокзальный кошмар. Все-таки лучше, если хоть его не было.
Народ из поездов вылезал серенький — ну кому в такое захолустье нужно? — с котомками, корзинками, мешками. Никто не улыбался. Шли понуро, словно выполняли тяжелую работу, упорно и злобно.
Мара быстро взглядывала в карманное зеркальце, встречала в нем тяжелые горем глаза Марии Николаевны и, задыхаясь от быстрых ударов сердца, провожала толпу. Шла за ней одна, отступая, как за покойником.
— Телеграммы не было?
Швейцар спокойно ищет на полочках под ключами:
— Нет.
Завтра утром надо уезжать. Через два дня петь в Милане. Она еще успеет встретить семичасовой утренний поезд — последнюю свою надежду.
Странная кровать в этом номере. С колонками, с балдахинчиком, какая-то средневековая. Много, много снов, полуснов видела Мария Николаевна под этим балдахинчиком за две ночи. И в снах всегда на вокзале, но не встречает, а провожает. И не может в толпе найти того, для кого пришла. Она приготовила фразу:
— Я ведь ужасно любила вас.
И сама плачет от этих слов, их красоты и печали.
И не может найти того, кому должна их сказать.
Уходят поезда на огромных черных колесах.
Оборвется сон стоном, и другой такой же настигает его…
И вот вечером второго дня села маленькая женщина на подоконник и заговорила с Богом, как древний Израиль. А потом услышала стук в дверь. И шорох по полу — это под дверь подсунули листок. Телеграмму.
Марья Николаевна опустилась на колени, перекрестилась, крепко прижимая пальцы ко лбу, до боли крепко и долго к груди и плечам.
— Спаси и помилуй!
И сейчас же, устыдившись перед Богом своей суетности, пояснила опять, как древний Израиль, просто и человечно:
— Ну что же мне делать, если в этом мое все?
Телеграмма путаными французскими словами извещала о том, что отказаться от контракта impossible[11], о том, что тенор спешно уезжает, хотя desobe[12], и вдобавок toujors, и напишет обо всем подробно.
Марья Николаевна долго читала слова глазами, потом стала понимать, читать душой. Самое страшное слово, которое, как ключ, повернулось и закрыло дверь наглухо, стояло наверху телеграммы, перед цифрами слов и часов. Это было — Hambourg. Название города, откуда послана телеграмма и откуда отплывают корабли.