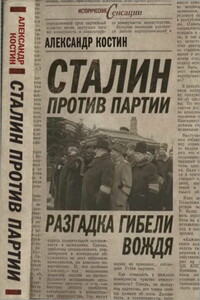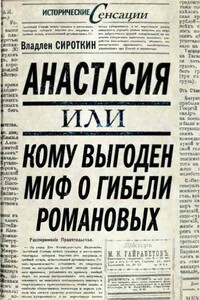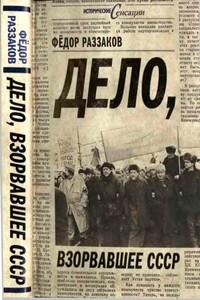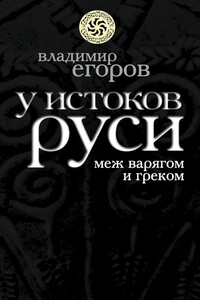Загадка Куликова поля, или Битва, которой не было | страница 38
».
К аргументам Н. Бурланкова позволю себе добавить еще одно соображение, тоже наводящее на размышление. Удивительно, что судьбоносная для Руси битва случилась точно на день Рождества Богородицы (8 сентября по старому стилю) — один из главных православных праздников. Такое совпадение подозрительно само по себе. Но сомнения многократно усиливаются вторым столь же удивительным совпадением. Получив известие о приближении Мамая, Дмитрий Иванович назначает сбор войск на Успение Богородицы (15 августа по старому стилю). Таким образом, вся кампания проходит точно между двумя двунадесятыми православными праздниками, связанными с рождением и кончиной Божьей Матери — издревле заступницы Руси и избавительницы от всяческих нашествий. Традиция обращения к заступничеству Богородицы при приближении врага ведет свое начало еще из Византии, где для защиты стен Константинополя их обходили с Влахернской иконой Божьей Матери. В Москве эта традиция нашла яркое выражение как раз в конце XIV века, когда сын Донского Василий Дмитриевич перенес в Москву Владимирскую икону Божьей Матери для защиты города от Тамерлана. Заметим, что как раз в это время начали формироваться известные нам письменные источники о Куликовской битве.
Отдельная проблема, даже целый пласт проблем, с широко известным благословением на битву Сергия Радонежского и участием в подготовке к ней митрополита Киприана. Роль Сергия тоже меняется по мере формирования окончательной версии «Сказания о Мамаевом побоище». Вообще не упомянутый в «Задонщине», в Летописной повести он посылает грамоту со своим благословением вдогонку московскому войску, а в «Сказании» уже лично благословляет Дмитрия на ратный подвиг и даже отдает ему двух своих монахов. Здесь тоже наглядно проступает процесс формирования мифа, как и в случае с митрополитом Киприаном. С учетом того, что пребывание Киприана осенью 1380 года в Москве весьма спорно, а на Сергия московский князь имел большой зуб, скорее всего оба церковных иерарха были приобщены московскими летописцами к делу задним числом, с одной стороны в обоснование благоверности Дмитрия Донского, а с другой — во славу Православной церкви.
В общем, как-то получается, что от некогда огромного и блистающего священной белизной, а ныне окончательно растаявшего монолита айсберга «Руси защитник» остается одно мокрое место. Зато это мокрое место радикально снимает все вопросы, оказавшиеся не по зубам сценарию «Руси защитник». Не был, не ходил, не участвовал. На нет и суда нет. Даже не решаемая другими сценариями проблема прозвания Дмитрия Донским тут решается в новой плоскости восприятия. Современники Дмитрия Ивановича даже не подозревали, что великий князь Московский и Владимирский был еще и Донским. Но после того как монах Кирилло-Белозерского монастыря Евфросин, известный своим «творческим» переписыванием летописей, поименовал Куликовскую битву «Задонщиной», последующим летописцам-соавторам Куликовского мифа прозвать Донским ее главное действующее лицо, что называется, сам Бог велел. Но додумались до этого, судя по всему, только в XVI веке.