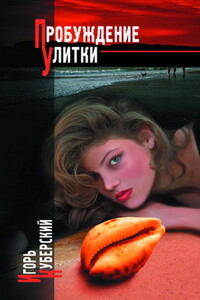Америка-Ночки | страница 25
Мы выбираем место на одинокой лужайке, за кустами, роняем на порыжелую траву наши байки, отдыхаем. Солнце все выше, тень все короче. Микаэла отщелкивает от рамы походную бутыль, жадно пьет из горла, протягивает мне. Я пью – не брезгую. Даже наоборот. Так нужно. Микаэла скидывает рваные тапки и остается в белоснежных носках. Теперь ее ноги с побитыми коленками почти привлекательны. В раструбе шорт, в коническом сумраке – край трусишек. Тоже белоснежных. Комарик, схватив фонарик, запевает у меня в груди. Со смущенным вздохом я скидываю футболку, ложусь навзничь возле Микаэлы и, уперевшись пятками в траву, укладываю затылок на ее ноге. Глаза закрыл – будь что будет. Грудь у меня мужественная, прием проверенный.
После некоторой паузы шершавая ладонь матери троих детей касается моей щеки:
– Петер, у вас нет женщины. Я понимаю. Вы хороший, Петер. Вы друг нашей семьи. Но если у нас с вами будет коитус, я должна буду рассказать мужу. Когда мы женились, мы дали слово во всем признаваться друг другу. И я горжусь тем, что еще ни разу ничего не утаила.
Я убираю голову из-под ее руки, сажусь. Срываю жесткую желтую травинку и прикусываю, глядя в камфарно-эвкалиптовую даль.
– Напрасно вы так делаете, Петер, – мягко, как психиатр, говорит Микаэла. – Совершенно напрасно... В сухих стеблях травы живет много вредных насекомых.
На обратном пути я нажимаю на педали и ухожу далеко вперед, но на ее улице беру себя в руки и жду.
– Уф! – выруливает из-за поворота мокрая растрепанная Микаэла. – Вот это финиш! Ну и задали же вы мне урок. Так мне и надо...
Видимо, кто-то из нас сбрендил.
– Нет-нет, так мне и надо, – убежденно трясет головой Микаэла. Похоже, ей сладко ее поражение.
Мы закатываем байки во двор, где меня обрехивают две хозяйские шавки.
– Не бойтесь, они не кусаются, – говорит Микаэла как раз в тот момент, когда одна из шавок довольно чувствительно прикладывается к моей лодыжке.
– Приходите еще! – протягивает мне руку Микаэла, – мы с Майком так вам рады.
Я представляю себе, как ступаю на крыльцо, открываю дверь, и Майк, не вставая с софы и не надевая шлепанцов на свои ухоженные ступни, всаживает в меня одна за другой две пули из охотничьего ружья, купленного по этому случаю.
Патриция часто выглядит плохо. Ее больным легким противопоказан солнечный Лос-Анджелос, и, если не надо преподавать и куда-то ехать за пополнением ветчины и красок, она отлеживается в своей закухонной каморке, включив увлажнитель воздуха. В такие дни ее взгляд делается беззащитным – ей хочется заботы, покровительства, ей хочется, чтобы рядом был сильный, все понимающий, все умеющий человек. И она неуверенно смотрит на меня. Видимо, я ей иногда кажусь таковым, и она становится искренной до той страшной степени, какая возможна только между очень близкими людьми. В одно из таких утр, когда воздух – это не воздух, а сгусток смога, дымовая лепешка поперек твоего горла – ее испекли трубы военных заводов, каковыми напичкана округа, – в одно из таких утр Патриция рассказывает мне историю жизни с Роном Мацушимой. Рассказывает она долго, чего-то делая попутно, переходя от предмета к предмету, а я слушаю в смущении и если моя помощь в том, чтобы подержать в руках гипсовый слепок чужой муки, то цель достигнута.