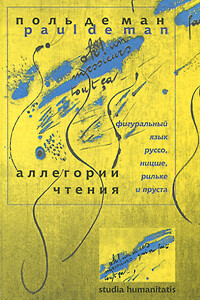Слепота и прозрение | страница 40
Теория романа Лукача убедительно и последовательно вырастает из диалектики жажды тотальности и отчужденного положения человека. Роман становится «эпическим повествованием о мире, из которого устранен Бог».
В результате отделения действительного опыта от нашего желания всякая попытка тотального понимания нашего бытия будет противоречить действительному опыту, который с необходимостью остается фрагментарным, частичным и неполным. Разобщение жизни (Leben) и бытия (Wesen) отражено исторически в закате драмы и параллельном восхождении романа. Для Лукача драма является посредником, в котором, как в греческой трагедии, воспроизведены всеобщие категории человеческого бытия. В те моменты истории, когда такой всеобщности нет в действительном опыте, драма совершенно отделяется от жизни, чтобы стать идеальной и иносказательной; немецкий классический театр после Лессинга служит Лукачу примером подобного отступления. Напротив, роман, желая избежать этого наиболее разрушительного типа раздробленности, укореняется в единичности опыта; как эпический жанр, он никогда не может утратить контакт с эмпирической реальностью, которая является неотъемлемой частью его собственной формы. Но во времена отчуждения он вынужден представлять эту реальность как несовершенную, как яростно рвущуюся из ограничивающих ее рамок, как постоянно переживающую неадекватность собственных размеров и формы и стесненную ими. «В романе конституируется не тотальность жизни, но скорее отношение, действенная или ошибочная позиция писателя, который появляется на сцене как эмпирический субъект, во весь свой рост, но также во всей своей ограниченности, как только лишь творение, устремленное к этой тотальности». Таким образом, тема романа с необходимостью ограничена индивидуальностью, разочарованием индивидуума, неспособного достичь всеобщих пределов. Роман зарождается в донкихотской растерянности между миром романтики и миром реальным. Корни более позднего догматического обращения Лукача к реализму следует, несомненно, искать в этом аспекте его теории. Однако во времена «Теории романа» убеждение в необходимости присутствия эмпирического элемента в романе совершенно сознательно, тем более, что оно уравновешивается попыткой преодоления границ реальности.
Тематическая двойственность, разорванность между земной участью и сознанием, стремящемся преодолеть эту обусловленность, ведет к структурной дискретности формы романа. Тотальность предполагает непрерывность, которая сравнима с единством природно сущего, но отстраненная реальность вторгается в непрерывность и разрушает ее. Вслед за «однородной и органичной устойчивостью» роман также обнаруживает «разнородную и случайную дискретность». Эта дискретность определяется Лукачем как ирония. Действие иронической структуры разрушительно, хотя оно и раскрывает истину того парадоксального понятия, которое представляет собою роман. На этом основании Лукач может утверждать, что ирония действительно дает средства, с помощью которых романист преодолевает формой произведения очевидную случайность своей ситуации. «В романе ирония есть свобода поэта в отношении к божественному., поскольку именно благодаря иронии в интуитивной неотчетливости взгляда постигается присутсвие божественного в мире, оставленном богами». Понятие иронии — как позитивной силы отсутствия — также является наследством Лукача, доставшимся ему от его прямых идеалистических и романтических предшественников; в нем сказывается влияние Фридриха Шлегеля, Гегеля и более всего — современника Гегеля — Зольгера. Оригинальность Лукача состоит в том, что он употребляет иронию в качестве структурной категории.