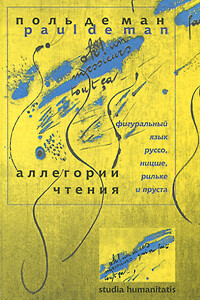Слепота и прозрение | страница 36
Такое заключение требует некоторого комментария. Представляется достаточно убедительным, что судьба поэтического сознания неразрывно связана с онтологическим «падением», играющим столь заметную роль в построении образов и мысли Бинсвангера. Можно даже сказать, что заключенное в искусстве знание есть особое знание падения, трансформация опыта падения в акт знания. Сложность возникает, когда такое знание интерпретируется как средство воздействия на судьбу, в нем открывшуюся. Это и есть тот самый момент, когда онтологическое вопрошание отдается эмпирическим устремлениям, готовым увести его с собственного пути. Глубина Бинсвангера всего более заметна, когда он говорит об изначальной тревоге поэта — мучительном заточении, в котором экзистенция раскрывается как временная категория. Даже описание «падения», попадающее в плен псевдоаналогии, заложенной в его излюбленной пространственной метафоре, и создающее обманчивое впечатление конкретности, все же менее субстанциально, чем у его предшественников: Лукача, Хайдеггера и Беккера. Падение вверх — очень удачный способ обозначения той двойственности, которая заставляет художественную инвенцию парадоксальным образом сочетать в себе свободную волю и благодать: воображение для Бинсвангера есть акт индивидуальной воли, которая все же обусловлена, в своей глубинной интенции, трансцендентальным элементом, лежащим за пределами нашего волевого усилия; здесь он остается в русле традиции основополагающих теорий воображения. Однако он не продумывает всех философских последствий своего открытия и скатывается к нормативному требованию гармоничного сочетания широты и глубины как необходимого условия уравновешенной личности. В конечном итоге Бинсвангера, как хорошего психиатра, интересует прежде всего достижение равновесия, а не истина падения.
Прежде чем мы займемся разбором этого случая литературной критики, нужно напомнить себе, насколько нелегко придерживаться строгого требования незаинтересованного внеэмпирического мышления. Мишель Фуко выказывает свое знакомство с этим трудом, когда критикует феноменологию:
Феноменология, хотя и зародилась прежде всего в атмосфере антипсихологизма, никогда не могла полностью освободиться от соблазнительной и угрожающей близости эмпирического подхода к изучению человека. Следовательно, хотя она начинает с редукции к cogito, она всегда была принуждена задавать вопросы, задавать онтологические вопросы. Мы видим, как на наших глазах феноменологический проект распадается на описание эмпирического опыта, который, вопреки самому себе, есть эмпирический опыт, и на онтологию запредельного мышлению, тем самым оставляя в стороне изначальное первенство cogito