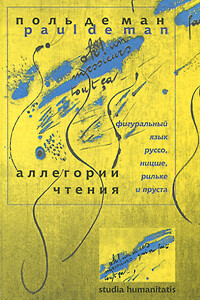Слепота и прозрение | страница 31
Бинсвангер был бы нам малоинтересен, если бы эта положительная концепция отношения между произведением и автором всегда оставалась беспроблематичной, держалась бы лишь силой примера, который стоит только привести, и тут же он возымеет свое воздействие. Поэтическое счастье — исполненность в искусстве — для Бинсвангера (как и для Башляра, с которым у него много общего) есть самая хрупкая форма счастья из всех, какие только можно вообразить. Мы исказили его мысль, когда, чуть выше, говорили о самореализации как об экспансии. Отречения и жертвы, которые требуются от писателя, нельзя понимать как некую сделку, в которой ложные ценности можно обменять на неподдельные. Напротив, «я» лишается возвышенно-конкретных и легитимных свойств и приобретает взамен самые коварные формы неподлинности. Вместо того чтобы говорить об экспансии или об исполненности, Бинсвангер принуждает нас рассматривать прежде всего опустошение, редукцию, происходящие в субъекте, поглощенном литературной деятельностью.
Эта редукция парадоксальна, ведь если мы рассмотрим этот вопрос не с точки зрения писателя, а с точки зрения его произведения, мы не обнаружим ничего подобного. Созданный автором мир, который можно назвать «формой», наделен полнотой и тотальностью. «Продуктивность искусства, — пишет Бинсвангер, — есть высшая форма человеческой продуктивности. поскольку сама по себе форма и только она творит содержание продуктивного действия. Форма конституирует сущее в его тотальности (die ganze Seinsphare) и, как результат, эта тотальность наполняет модус эстетической интенции». «Произведение искусства представляет тотальное раскрытие всего сущего в художественной форме, которая с необходимостью есть освобождение»[23].
В данном контексте термин «форма» следует понимать не в узко эстетическом смысле, но как проект фундаментальной тотализации; во всех подобных эпизодах Бинсвангер ставит ударение на совершенстве, исполненности произведения. Но тотальность формы никак не предполагает соответствующей тотальности конституирующего «я». Отличие «я» автора от «я», постигаемого в тотальности произведения, находит свое конкретное проявление в их расходящемся предназначении. Это расхождение не случайно, оно конституирует произведение искусства как таковое. Посредством него и в нем зарождается искусство.
Теоретическое обоснование этого парадокса — что полнота произведения производна от редукции «я» — Бинсвангер находит в замечательной, но, по всей вероятности, недостаточно известной статье Дьёрдя Лукача, написанной в 1917 году. Эта статья, «Субъект-объектное отношение в эстетике», была опубликована в журнале «Логос». В ней, написанной в неокантианской терминологии, чувствуется влияние Риккерта (того самого Риккерта, который был одним из учителей Хайдеггера); здесь описываются особые свойства эстетической деятельности в ее отличии от структуры логической и этической деятельности духа, — такое деление соответствует трем кантовским критикам. Не вдаваясь в детальный анализ, мы можем ограничиться теми выводами, которые Лукач делает о природе отношения структуры произведения к субъективности автора. Структура вычленяется в описании произведения как «монады без окон» (eine fensterlose Monade), понятие, объединяющее идею обособленности с идеей тотальности. С одной стороны, произведение есть сущее, существующее само по себе и для себя, оно изначально неспособно соотноситься с каким-либо другим сущим, даже если это последнее является эстетическим по своему роду. С другой стороны, оно есть космос, то есть совершенно самодостаточное в своей обособленности, поскольку оно внутри самого себя способно отыскать все, что необходимо для того, чтобы быть, и не зависит ни от чего, что находится за его пределами. Эти пределы, по словам Лукача, «изначально имманентны, они именно таковы, какими способен обладать лишь космос»