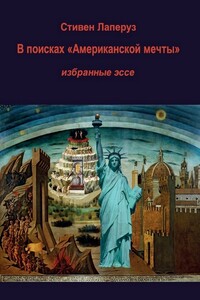Слепота и прозрение | страница 22
Введение принципа интенциональности могло бы поколебать органическую аналогию и привести к утрате смысла формы; отсюда понятно стремление новых критиков оградить свой величайший источник силы.
Нужно напомнить, обращаясь к самому Колриджу, что то, что он называет «эземпластичной» силой воображения, не обосновывается исключительно причастностью сознания природной силе космоса. М. Х. Абрамс в книге «Зеркало и светильник» справедливо настаивает на значимости свободной воли для Колриджа. «Колридж, — пишет он, — хотя и признает бессознательный элемент в творчестве, определенно указывает, что такие поэты, как Шекспир, «никогда ничего не писали без ясной идеи задуманного». То, что цветок не есть нечто само по себе бессознательно на нас воздействующее, Колридж сообщает нам, говоря: «сам изменись, чтобы так случилось»»[12]. И в «Метаморфозах круга» Жорж Пуле, говоря о колдриджевском ощущении формы, подчеркивает, что оно есть результат «выраженного действия нашей воли», которая «налагает свой закон и уникальную форму на поэтический мир»[13]. Другими словами, структурная сила поэтического воображения базируется не на аналогии с природой, но на собственной интенциональности. Абрамс это отчетливо видит, когда отмечает, что колдриджевское понятие свободной воли, «по-видимому, противоречит внутренней направленности его излюбленной аналогии»[14].
Эта амбивалентность вновь проявляется у современных последователей Колриджа в характерном расхождении между их теоретическими положениями и практическими результатами. По мере того как американская критика оттачивает свои интерпретации, она выявляет не единый смысл, но — множество значений, которые могут быть радикально противоположны друг другу. Вместо того чтобы обнаруживать непрерывность, родственную согласованности природного мира, она ввергает нас в разорванный мир рефлексивной иронии и амбивалентности. Почти вопреки себе самой она настолько углубляется в интерпретативный процесс, что аналогия между органическим миром и языком поэзии окончательно сходит на нет. Унитарная критика в конечном итоге становится критикой двойственности, ироничной рефлексией над отсутствием постулированного ею же единства.
Но откуда же тогда возникает контекстуальное единство, которое вновь и вновь утверждается в работе с текстами и которому американская критика обязана своей эффективностью? Не располагается ли это единство — которое является фактически лишь половиной смысла — не в самом поэтическом тексте, но в акте его интерпретации? Завершенность единства, которое мы здесь находим и которое называется «формой», не возникает из аналогии текста с естественной вещью, но устанавливает герменевтический круг, о котором говорит Шпитцер