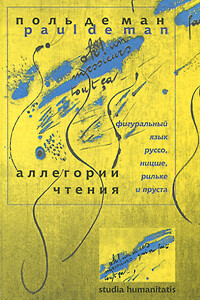Слепота и прозрение | страница 10
Литература, очевидно, есть форма языка, и можно утверждать, что все остальные формы искусства, включая музыку, являются по сути протолитературными языками. Таков был тезис оксфордской лекции Малларме и об этом же говорил Леви-Стросс, утверждая, что язык музыки, как язык без говорящего, очень близок к тому мета-языку, о котором мечтают лингвисты. Если принять эту радикальную точку зрения Леви-Стросса, если вопрос о структуре может быть задан только с позиции отрицания привилегированного субъекта, то необходимо показать, что и литература не составляет здесь исключения, что ее язык ничуть не более привилегирован в отношении единства и истины, нежели повседневные языковые формы. Тогда совершенно ясной становится задача структуралистов — литературных критиков: чтобы устранить конститутивного субъекта, им нужно показать, что разрыв между знаком и значением (significant и signifie) господствует в литературе точно так же, как и в обыденном языке.
Некоторые современные критики выполняли эту задачу более или менее осознанно. Практическая критика во Франции и Соединенных Штатах все более становится демистификацией того убеждения, что литература является привилегированным языком. Общая стратегия состоит в показе того, что определенные требования аутентичности, предъявляемые к литературе, на самом деле есть изъявление желания, которое, как и все желания, становится жертвой двойственности выражения. Так называемый «идеализм» литературы предстает тогда как идолопоклонство, как прелесть обманчивого образа, стремящегося подражать аутентичности, но на самом деле остающимся всего лишь пустой маской, за которой фру- стрированное, растерянное сознание пытается скрыть собственную негативность.
Вероятно, наиболее показательным примером подобной стратегии является употребление термина «романтическое» у критиков-структуралистов; данный пример способен также вскрыть историческую схему, внутри которой этот термин разрабатывался и которая не всегда оказывается на виду. Убеждение, что в языке поэзии знак и значение могут совпадать либо же находиться между собой в свободном и гармоничном равновесии, называемом красотой, описывается как особая романтическая иллюзия. Единство явления (знака) и идеи (значения) — используя терминологию, которую мы находим у теоретиков романтизма, когда они говорят о Schein и Idee, — выявляется в качестве романтического мифа, воплощенного в возобновляющемся топосе «прекрасной души». Эта самая schone Seele, доминирующая тема пиетистского происхождения в литературе восемнадцатого и девятнадцатого веков, действительна в качестве фигуры привилегированного языка. Внешнее явление наделяется красотой от внутреннего свечения (или fue sacre), которому оно настолько созвучно, что, не скрывая от взгляда, наделяет его необходимым равновесием непроницаемости и прозрачности, позволяя светить, но не жечь. Время от времени романтическое воображение воплощает эту фигуру в различных типах личности, женской, мужской или гермаф- родитной, производя впечатление, что подобная личность существует как реальный, эмпирический субъект: мы думаем, например, о Юлии Руссо, о Диотиме Гёльдер- лина или же о прекрасной душе, являющей себя в гегелевской «Феноменологии духа» или в гетевском «Вильгельме Мейстере».