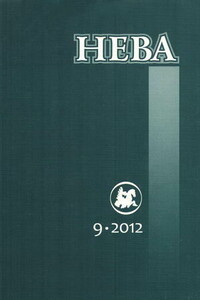Родственники | страница 14
Он смутно видел свежую землю, край чего-то узкого, темного, с покачиванием уходящего вниз, и, понимая, зачем эта земля и это темное, прикусив губы, поднял голову и на миг встретился с огромными, умоляющими глазами Эли.
После какая-то золотистая мгла была в небе над Васильевским, там расплавленно горели окна в размытых закатом силуэтах домов, вспыхивали стекла еле видимых трамваев на далеких мостах, тонкими палочками равномерно и стеклянно взмахивали длинные весла гоночных лодок на Неве, и все буднично говорило о том, что ничего не изменилось в городе, а он слышал за собой то отстающий, то догоняющий цокот каблуков, знал, что все время от кладбища сзади шла Эля, но не окликала, не останавливала его.
Потом он, замерзая, облокотился на парапет, стал упорно смотреть на враждебно покойную багровость воды, боясь взглянуть на Элю. Она замедлила шаги, приблизилась, совсем неслышно переводя дыхание, облокотилась рядом и молчала, не шевелясь, как будто ее не было здесь.
С неотпускающей спазмой в горле он из-за поднятого воротника посмотрел, и Эля сразу почувствовала это — чуть-чуть дернулись брови, и она сказала шепотом:
— Ты только ничего не говори… И я не буду, если тебе не помешаю…
— Ты мне не мешаешь, — ответил он с усилием.
— Почему люди любят смотреть на воду? — тихо спросила она. — И еще на огонь… В детстве я любила, когда вечером топили голландку. Открывала дверцу и садилась к огню.
— Ты мне не мешаешь, — повторил он.
— Смотри, сколько чаек на Васильевском, — сказала она и заплакала, и Никита увидел, как она пальцем со страхом тронула прыгающие губы.
Тогда он, дрожа от озноба, подумал, что она тоже все время помнила тот тленный холод материной щеки, и он почти судорожно обнял ее, прижал к себе родственно, словно хотел защитить от того, от чего не мог защитить себя.
— Этого не надо, — сказал он охрипшим голосом.
— Нет, нет… Я не плачу.
— Мы уже ничего не можем.
— Ну нет, нет, просто подумала… Не обращай внимания. Больше этого не будет. Я в первый раз была на кладбище. Я не знала…
И, все не подымая глаз, осторожно положила ладонь ему на грудь, провела, потрогала его пуговицы, потом сказала так уверенно, точно они были знакомы не шесть месяцев, а шесть лет:
— Если ты хочешь, мы можем пойти к тебе. Делай, как считаешь лучше.
— Мы не можем ко мне.
— Тогда, если хочешь, пойдем к нам. Я скажу, и мои все поймут.
— Я не знаю твоих.
— Они поймут, они должны понять, — сказала она.
— Нет. Они не знают меня.