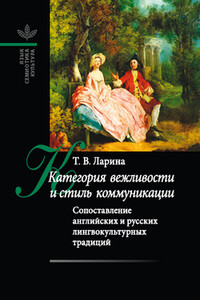Стрела познания. Набросок естественноисторической гносеологии | страница 31
а) Первичный факт «открытого мира» (а именно — двушагово устанавливающегося мира, в котором «истина», «закон» и тому подобное являются терминами языка последствий, а не абсолютного прообраза его устройства, регулятивного и для «Бога»), который мог излагаться и обсуждаться (например, у Декарта) лишь в терминах соотношения «полноты божественной воли» и «закона», «свободы установления» и «истины», то есть проясняться религиозно-метафизически, может теперь обсуждаться на чем-то позитивно наблюдаемом, расчленяться в терминах анализа реального явления, а именно, существования и действия особого типа природных взаимодействий — экспериментальных взаимодействий, внутренней стороной которых является самоформирование и эволюция путем обучения некоторых чувствующих и сознающих существ, неотделимо связанных с объектами этих экспериментов и повторно воспроизводящих, «проигрывающих» мир, природу в измерении деятельности (идея Бога будет тогда, скорее, последствием этого позитивного факта или его симптомальным самоназыванием). Это дает более содержательное определение и расчленение так называемого «исторического элемента» (как внутреннего и отличного от универсальных физических законов), не отбрасывающие его в никак научно не артикулируемую, нерасчлененную область «локальных актуализаций», «случайного», «произвольно единичного», чисто диахронно изменчивого, текучего и так далее.
б) В соответствующей исторической онтологии мы не будем иметь объектов и их предикатов в качестве чего-то лежащего где-то в готовом виде и ожидающего познания, a будем иметь растяжку их в «истории», в «мировые точки факты», где эмпирические значения-предикаты (и соответствующие задачи соответствия, разрешимости и тому подобное) потом, после движения, ибо сначала должен установиться двинувшийся, качнувшийся в зазоре «производство-воспроизводство» мир. Отсюда необходимость анализа в терминах «процессов» и «событий», ухватывающих эти движения в зазоре и скрытые предпосылки воспроизводства и дления, пребывания.
в) Иным будет понятие истины (поскольку нет предданных источников мысли — что-то делается или не делается источником мысли): временность, бытийная имманентность истины как вечного настоящего. Нечто есть или становится истиной, а не устанавливается в соответствии с истиной, то есть потому, что так сделалось, а не сделали или установили в соответствии с истиной. Если нечто высказывается истинным лишь в интеграле двух шагов (а не есть с самого начала), то мы, тем самым, начинаем снимать абстракцию логической бесконечности (и готового, завершенного Мира сущностей, смыслов, законов) и устранять натуральное представление вещей из суждений об их сознательных выражениях или «отражениях». И тогда проблема истины есть проблема воссоздания (в объективном смысле, а не в смысле представления) историческим индивидом своих оснований в потоке воспроизводства и повторений (истина как она установилась), а не проблема соответствия некоторому внеположному и неподвижному X (лишь свободное явление есть истина, а оно должно непрестанно делаться снова и снова). Тогда понятна и проблема эволюционного инооснования, полилинейности эволюции и так далее.