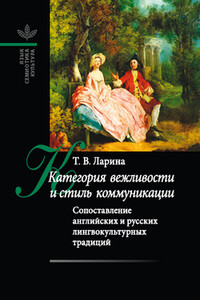Стрела познания. Набросок естественноисторической гносеологии | страница 25
§ 16. Гармонические структуры проблемных ситуаций или полей, ассимилировавших в себе данное экспериментально- измерительное видение и его «органы», «телесные протяжения», — вот, с чем мы реально сталкиваемся в истории и работе познания. Граничные условия и точки в полях, из-за которых эти структуры и устанавливаются как дискретные, пространственно-временные «неизбежности», как цельные, многократно расчленные движения, осуществляющиеся как одно, хотя и многое (и не зависящие от объемлющего бесконечного многообразия — как бы сингулярности, меняющие из точки последнее). То есть есть 1) строение «машины времени» и 2) ее поле сил, по линиям которого мы движемся и которое разворачивает наш ум в ту или другую сторону. Так сказать, собственные движения, не зависящие ни от субъекта, ни от результата истории и связанной с ним общей координатной системы отчета (но они, поскольку их система отсчета привязана как раз не к координатам, а к индивиду, видны лишь в интервале «бытия-сознания», а не в точках объективированной перспективы видения мира; интервал смазан в точке; а раз сплющен в точку, то в наблюдении все разбегается в несоизмеримость и исторический релятивизм; если же растянуть точку по ее глубине (в интервал), то разбежавшееся вновь сойдется (в один объект разных опытов); это в языке историка, а в истории вспыхнет новая сингулярность — развитие («малость» таких абсолютов). Этими граничными условиями и точками, пределами (Одно, вросшее во Многое, и Многое, скованное в Одно) очерченная монада должна браться на фоне (в том числе, и ненаблюдаемом) предметных последствий изменений, производимых человеческой деятельностью, неминуемо разлаживающих ситуации («возмущения» —> «исходное не равновесие», «неустойчивое противостояние»), целое в которых и восстанавливается снова гармонией, ведущей себя как форма (целое почти в аристотелевском смысле).