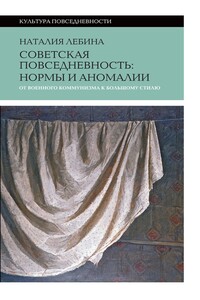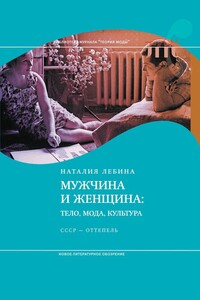Повседневная жизнь советского города | страница 41
После 1917 г. многое переменилось. В период гражданской войны наблюдалось явное сокращение преступлений, квалифицировавшихся как нарушение общественного порядка. И это вполне естественно. В городе действовал «военно-коммунистический» порядок, и посягательство на него было чревато весьма серьезными последствиями. Кроме того, контингент лиц, склонных по своему темпераменту к хулиганским проявлениям, отчасти сублимировал свою энергию как в революционной, так и в контрреволюционной деятельности.
Однако с возвращением к мирной жизни волна хулиганства резко выросла. В Ленинграде число приговоренных к различным срокам тюремного заключения за нарушение общественного порядка с 1923 по 1926 г. увеличилась более чем в 10 раз, а доля их в общем количестве осужденных выросла с 2 почти до 17 %. Основная масса хулиганов была моложе 25 лет. Это новая специфическая советская черта. Изменились и социальные характеристики преступников. Криминологи отмечали, что «…хулиганит в основном рабоче-крестьянская молодежь в возрасте от 18 до 25 лет, и главным образом на почве социальной распущенности, выражающейся в грубой примитивности интересов, в отсутствии культурных запросов и социальной установки, в крайне низком образовательном уровне»[78]. По данным обследования 1926 г., рабочая молодежь составляла около 3/4 всех хулиганов.
Конечно, далеко не все молодые люди пролетарского происхождения были склонны к противоправным поступкам. Криминологи 20-х гг. подчеркивали, что о хулиганстве нужно говорить «…как о комбинации факторов культурно-бытовых и социально-экономических с факторами биопсихологическими»[79]. Но рабочая среда была наиболее благоприятной для развития хулиганства. Этому способствовали изменения в составе рабочих, появление в их среде асоциальных элементов. Уже в 1925 г. народный комиссариат просвещения РСФСР решил влить бывших беспризорников в рабочие коллективы для перевоспитания. В конце 20-х гг. эта тенденция усилилась.
Рост бесчинства и дебоширства провоцировался и специфической «культурологической подсказкой», традиционными пролетарскими бытовыми практиками. Они были связаны с атмосферой бывших слободок, окрестных деревень и их специфическими формами досуга, нередко носившими полуобщинный характер. К их числу относится, например, кулачный бой. Он был типичен для русской деревни как своеобразное выражение ритуального мужского союза. Крупный исследователь проблем молодежных субкультур в историко-этнографическом аспекте Т. А. Бернштам подчеркивает, что для русской деревни на рубеже XIX–XX вв. кулачный бой был крупным общинным событием, при этом «ритуальность и символичность битвы очевидны: социальных причин для драки нет, дерутся не по злобе»