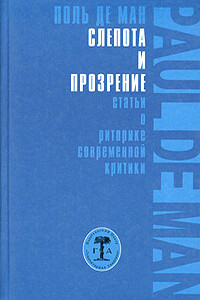Аллегории чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста | страница 45
Структуры и перемены такого рода, в которых свойства подставляются и меняются местами, характеризуют тропологи- ческие системы как, по крайней мере отчасти, парадигматические, или метафорические. Поэтому не удивительно, что этот вводный отрывок о чтении, с самого начала находящийся под покровительством эпистемологической пары истины и заблуждения, тоже содержит утверждения, провозглашающие первичность метафоры в рамках бинарной системы, противопоставляющей метафору метонимии[70]. Отрывок говорит о модальности присутствия солнца в комнате: сначала оно представлено в контексте зрения посредством метафоры «блик которого все же ухитрялся просунуть сквозь неплотно прикрытые ставни свои золотистые крылышки и замирал... будто неподвижный мотылек»; затем в контексте слуха при помощи отзвука стука Камю, «заколачивающего... пыльные ящики» на улице, и наконец, вновь в контексте слуха в жужжании мух, обобщенно названном «летним камерным концертом легкой музыки» (83,1.20; 73-74)[71]. Переход чувственных свойств в синестезии — это всего лишь особый случай более общего образца подстановки, присущего всем тропам. Это—результат обмена свойствами, ставшего возможным благодаря столь тесному и близкому сходству, или аналогии, что одно из этих свойств позволительно ставить на место другого, не обнаруживая неизбежно подразумеваемого подстановкой различия. Соответствующая связь между двумя сущими, включенными в процесс обмена, в таком случае становится столь крепкой, что ее можно назвать необходимой: не бывает лета без мух, не бывает мух без лета. «Тесная связь», соединяющая мух и лето,— естественная, генетическая, неразрушимая; хотя мухи—всего лишь минутная часть целостного события, обозначенного как «лето», они тем не менее причастны к его самой неповторимой и цельной сущности. Синекдоха, подставляющая часть на место целого и целое на место части — на самом деле метафора