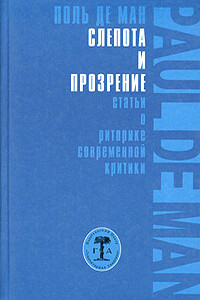Аллегории чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста | страница 20
Вот почему толкователи, вычитывающие из произведений Рильке радикальное требование изменить наш способ бытия в мире, вовсе не ошибаются: такое требование — и в самом деле центральная тема его поэзии. Некоторые воспринимают ее без всяких ограничений. Иные полагают, что Рильке все еще находится во власти онтологических предпосылок, от которых не способны избавиться даже самые острые его переживания, и что обращение, которого он требует, каким бы трудноисполнимым оно ни было, все же преждевременно и иллюзорно. В добрых намерениях Рильке не сомневаются, но критический анализ его мысли может показать, что он был слеп. Такие результаты стремился получить Хайдеггер в эссе, опубликованном в 1949 году и еще не вполне освоенном исследователями творчества Рильке[15]. Но может быть и так, что позитивность тематического утверждения вовсе не однозначна и что язык Рильке, почти вопреки утверждениям поэта, делает его весьма сомнительным.
На первый взгляд не в этом дело. Передовой уровень рефлексивного самопознания, наполняющий поэзию Рильке, нигде не приходит в противоречие со свойственным ему мастерством поэтического изобретения. Значение высказывания совершенно соответствует модусу выражения, и поскольку этому значению присуща значительная философская глубина, кажется, будто поэзия и мысль слились здесь в совершенном синтезе.
Вероятно, именно поэтому даже лучшие истолкования Рильке остались, по большей части, на уровне пересказа, часто утонченного и внимательного, но не подвергающего сомнению взаимопроникновение значения и лингвистических средств, примененных для того, чтобы передать его[16]. Высказывания достаточно богаты, чтобы насытить значение во всей его полноте. Предположительному взаимопроникновению высказывания и lexis, того, что сказано, и модуса его высказывания, нимало не мешает и явно подразумеваемое в этих хорошо продуманных высказываниях, тематизирующих некоторые лексикологические и риторические аспекты поэтической манеры, утверждение, что язык — конститутивная категория значения. Высказывания Рильке о языке передает его поэзия, и это позволяет свободно переходить от поэзии к поэтике. Кажется, будто возможность конфликта между ними даже не допускается. Поэтому один из комментаторов Рильке мог написать: «Поэтическое „содержание" и поэтическая „форма" столь совершенно соединены в творчестве
Рильке, что немыслимо оспаривать ценность его поэзии, исходя из возможного расхождения „мысли" и „поэзии"»