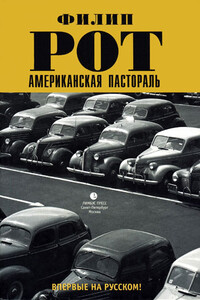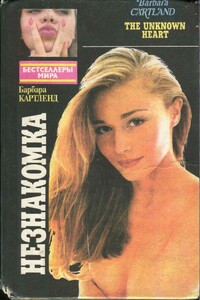Прощай, Колумбус и пять рассказов | страница 14
Джулия промазала, и, признаюсь, в сердце у меня возник слабый приятный трепет.
— Ты слегка закручивай, — сказал ей мистер Патимкин.
— Можно еще раз? — спросила у меня Джулия.
— Да.
При отцовских подсказках со стороны и моем натужном благородстве на площадке шансов нагнать ее было мало. А мне вдруг захотелось — захотелось выиграть, разбить маленькую Джулию в пух и прах. Бренда лежала под деревом, опершись на локоть, жевала листок, наблюдала. А в доме, в кухонном окне, отодвинулась штора — солнце опустилось низко, оно уже не слепило, отражаясь от никелированных электроприборов, — и миссис Патимкин внимательно наблюдала за игрой. А потом на заднем крыльце появилась Карлота с персиком в одной руке и мусорным ведром в другой. Она остановилась и тоже стала смотреть.
Теперь была моя очередь. Я промахнулся и со смехом спросил Джулию:
— Можно мне еще раз?
— Нет!
Теперь я понял правила игры. Мистер Патимкин приучил дочерей к тому, что свободные броски предоставляются им по первой просьбе; он в состоянии их предоставить. Я же на глазах у обитателей Шорт-Хиллз — матрон, слуг и кормильцев — не чувствовал в себе такой готовности. Но должен был уступить — и уступил.
— Большое спасибо, Нил, — сказала Джулия, когда игра закончилась на ста, и запели сверчки.
— Не за что.
Бренда под деревом улыбалась.
— Ты ей поддался?
— Наверное, — ответил я. — Не знаю. Вероятно, ответ мой прозвучал так, что Бренде пришлось меня утешить:
— Даже Рон ей поддается.
— Хорошо Джулии, — сказал я.
3
На другое утро мне удалось поставить машину на Вашингтон-стрит, прямо напротив библиотеки.
Приехал я на двадцать минут раньше и решил прогуляться перед работой по парку; меня не особенно тянуло к коллегам, которые пьют сейчас кофе в переплетной и все еще пахнут апельсиновым соком, поглощенным накануне в Асбери-Парке[12]. Я сел на скамью и смотрел на Брод-стрит, поутру полную машин. В нескольких кварталах к северу гремели поезда из Лакавонны; я их слышал и думал: зеленые солнечные вагоны, старые и чистые, с окнами, открывающимися полностью. Иногда по утрам, чтобы убить время перед работой, я выходил к путям и смотрел на открытые окна, где мелькали локти в светлых рукавах, края портфелей, принадлежности бизнесменов, прибывающих из Мейплвуда, Ист-Оранджа, Уэст-Оранджа и дальних пригородов.
В парке, расположенном между Вашингтон-стрит и Брод-стрит, еще пустом, тенистом, пахло деревьями, ночью, собачьим пометом и слабым влажным запахом, оставшимся после поливального мастодонта, который уже прошел здесь, орошая и подметая центральные улицы города. У меня за спиной, на Вашингтон-стрит, был музей Ньюарка, я видел его, не глядя: две восточные вазы перед фасадом, словно плевательницы какого-нибудь раджи, а рядом флигелек, куда мы школьниками приезжали на автобусе. Флигель был кирпичный, старый, затянутый вьюнами и всегда напоминал мне о связи Нью-Джерси с рождением страны, с Джорджем Вашингтоном, который обучал здесь свою разношерстную армию — об этом сообщала нам, детям, бронзовая дощечка, — обучал в том самом парке, где я сейчас сидел. Дальше за музеем стояло здание банка, где я учился студентом. За несколько лет до того банк превратили в филиал университета Ратгерса, и в бывшей приемной президента банка я прослушал курс под названием «Современные моральные проблемы». Хотя сейчас было лето и колледж я закончил три года назад, мне нетрудно было вспомнить приятелей-студентов, которые работали вечерами в «Бамбергере» и «Крезге»