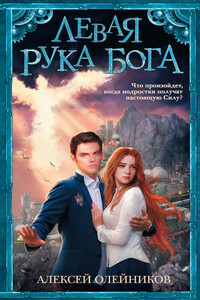Стан Избранных (Лагерь святош) | страница 40
— Моя совесть абсолютно чиста, — усмехнулся бельгиец. — Никакого чувства вины, могу вас уверить. Не стану отрицать — мне действительно страшно, но страх — единственное чувство по отношению к вашей стране, которое я когда-нибудь испытывал. Поэтому, исполняя мой долг, простой и понятный, я не собираюсь поддаваться этому страху. Увидимся на пирсе?
— Да вы сошли с ума! Это шутка?!
Дипломат не шутил, хотя разговор оборвался на шутливой — пусть и нервозно-шутливой — ноте. С этой минуты и до тех пор, пока флот не отчалил, все чиновники как будто исчезли, растворившись в безмолвии Ганга.
Двенадцать
Впоследствии, когда мир узнал не только об отплытии флотилии, но и об обстоятельствах смерти бельгийского консула, ни одна живая душа на Западе не осмелилась поднять голос в его оправдание. Со всех сторон неслись одни лишь резонёрские обвинения в духе — «Консул Химманс и его глупое геройство», и никому не было дела до чувств и мыслей человека, которого разъярённая толпа топтала до тех пор, пока он не превратился в пятно крови на берегу Ганга. Поступок дипломата следовало назвать вовсе не глупым, а патетическим — вот, пожалуй, наиболее верное слово. Но уязвлённые им до глубины естества адепты «толерантности любой ценой», разумеется, не могли до этого додуматься. Им было некогда: они торжествовали. Для них патетика имела совсем другой смысл. Дырявые корыта, наполненные беженцами, представлялись им воплощением пафоса, а бельгиец в их глазах оставался глупцом. Одни-единственный журналист почти что сумел правдиво отразить поступок дипломата, но и он не удержался от глумливого тона: «Последний выхлоп издыхающего режима». В статье обсуждались времена, когда Запад посылал войска, вмешиваясь в судьбы покорённых народов, и картина постепенного ослабления западной мощи — вплоть до единственного выстрела винтовки посла, олицетворявшего навеки утраченное превосходство.
Для стороннего наблюдателя героический жест бельгийца выглядел, как произведение искусства: воплощение, синтез и развязка одновременно, само совершенство, словно последнее движение кистью величайшего художника, которое он считает самым выдающимся из своих достижений. Но бельгиец был чужд любого позёрства. Он не стремился никому подражать. Далёкий от грёз предстать в глазах потомков образцом эпического великолепия, он не испытывал тяги к театральным эффектам. Несмотря на это, спектакль его гибели разыгрался в лучших традициях сценического искусства. Вся его армия, например, состояла из единственного солдата — того самого верного и отважного сикха. Он превратился в комического персонажа, которого играет потёртый, изголодавшийся второсортный актёр, ковыляющий по сцене с плакатом «Армия Его Превосходительства Западного Посла». Важным, пожалуй, мог быть тот факт, что, несмотря на ничтожный размер, армия дипломата олицетворяла собой, тем не менее, старинную традицию, благодаря которой власть и могущество Запада утвердилось вдали от его непосредственных границ. Это была армия, сформированная из туземцев, натасканных ненавидеть своих соплеменников, так же, как, например, собака бледнолицего не выносит собаку негра. Ещё более символичным представлялось то, что эта армия — продажная сверху донизу, нанятая для утверждения западных интересов по всему миру — скукожилась до одного бойца. И вот так, с одним-единственным солдатом за спиной, бельгиец преградил дорогу миллионной толпе бесноватых дикарей — сухопарая фигура в английских шортах, рубашке с короткими рукавами, в вырезе которой просвечивала поросшая седым волосом костлявая грудь. Не то, чтобы эта толпа и в самом деле состояла из бесноватых дикарей, — просто так принято живописать подвиги западных завоевателей, от Кортеса и Писарро до нашего собственного Бурназеля и его африканских завоеваний: белый человек в гордом одиночестве (ну, почти всегда) против необузданных многочисленных, угрожающих орд, повергающий их всех в ужас одним лишь своим появлением. Впрочем, очарование этой картинки давно поблекло. Дипломат походил скорее на старого усталого фокусника, уверенного, что он непременно завалит свой трюк, но всё-таки из раза в раз повторяющего его на публике, не ради славы или чего-то такого, а потому, что даже ветхий, ни на что не годный более чародей заслуживает достойного конца, сколь угодно абсурдного. Так же и незадачливый западный герой совершает причудливый, эксцентричный подвиг перед теми, кто прежде исправно ему рукоплескал. Как только восхищение уступает место презрению, эпатаж остаётся единственным, что имеет хоть какой-то смысл. Собственно, почему должно быть иначе? Разве шуты не были умнее тех королей, перед которыми им приходилось скоморошествовать? Да будет так. При новых смуглых господах шутами станут бледнолицые. Вот так, — очень просто.