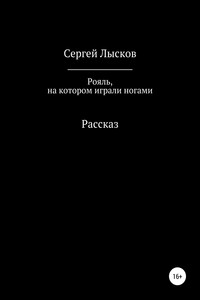Стан Избранных (Лагерь святош) | страница 2
Вадим Давыдов
Жан Распай
Мои войска выходят на поверку.
Сегодня бой, но я скольжу по верху,
рассеян, как гриппозный Бонапарт.
Отчизна тает в час по километру.
Мой конь идёт не вовремя до ветру.
Мой вестовой прелестно конопат.
Так наступил наш общий час неровный.
Наш Рим в огне, но мы же не Нероны —
не нам в вину вменяется поджог.
А варвары прорвутся сквозь кордоны
и вставят нам, не вспомнив про кондомы,
и вынут царство прямо из-под жоп.
Александр Таллер
Раз
Пожилой профессор поднял голову, охваченный простой — слишком простой — мыслью. Несмотря на имеющиеся невероятные обстоятельства, невзирая на всё, им прочитанное, написанное и передуманное за долгую жизнь, на привычку к научному осмыслению всего вокруг — ему не хватает мужества предложить что-нибудь, кроме самых обыкновенных, самых банальных рассуждений, на которые способен любой школяр.
День выдался чудесным, тёплым, но не жарким, и прохладный весенний бриз нежно, бесшумно обнимал закрытую террасу возле дома. Особнячок профессора примостился вверху, одним из последних — у самого гребня холма, взгромоздившегося на скалистом склоне, словно застава, хранящая коричнево-оранжевый посёлок и возносящаяся над раскинувшимся внизу ландшафтом курортного местечка, — над его пышным прибрежным бульваром, усаженном ярко-зелёными пальмами, верхушки которых едва можно было разглядеть отсюда, и превосходными белыми домами; над морем, безмятежно-синим морем богачей, — теперь изборождённым отнюдь не привычной дорогущей фанерой хромированных яхт, не мускулистыми телами любителей водных лыж и загорелыми девушками, не дряблыми белыми животами туристов, подпирающих поручни палуб прогулочных катеров, больших, но привычно осторожных, — нет, теперь в пугающе пустой акватории, в каких-нибудь пятидесяти ярдах от берега, зловеще покачивался невероятный флот, приковылявший сюда с другой половины земного шара, ржавый, убогий флот, — пожилой профессор рассматривал его уже долго, с самого утра.
Вонь уже не донимала так сильно, — чудовищная вонь гигантского сортира, возвестившая о прибытии мусорного флота, как гром возвещает о приходе грозы. Профессор оторвался от окуляра подзорной трубы и отступил от штатива с закреплённым на нём прибором. Он потёр уставший от напряжения глаз и посмотрел на входную дверь. Выполненная из цельной дубовой древесины, она казалась незыблемой, и впечатление это усиливалось могучими петлями, крепко державшими дверь. Фамилия, которую с гордостью носили предки пожилого мужчины, была навечно врезана в тёмную панель, как и год, в который один из славных предшественников профессора на земле завершил строительство: 1673. Сразу за дверью находилась просторная комната, служившая профессору библиотекой, кабинетом и гостиной одновременно. Других входных дверей у дома не было. Вообще-то с террасы можно было выйти сразу на дорогу, спустившись по пяти невысоким ступенькам, — без калитки или ворот, что могли бы помешать прохожему войти и поприветствовать хозяина, — так они обычно и делали тут, в посёлке. От рассвета до заката дверь оставалась открытой. Так, и в этот вечер, когда солнце уже завершало свой привычный путь за горизонт, дверь привычно не запиралась, — и, кажется, впервые профессора это беспокоило. Из-за этой вечно незапертой двери в мозгу пожилого профессора свербела мимолётная мысль, которую он ощущал, но никак не мог ухватить, и чья совершеннейшая банальность заставляла его губы кривиться в ригорической усмешке: «Интересно, — как будто говорил он сам себе, — что, если, в известном смысле, пословица права, и дверь следует или распахнуть, или держать на замке?»